Юрий Олеша "Ни дня без строчки"
"наша улица" ежемесячный литературный журнал
основатель и главный редактор юрий кувалдин москва
Юрий Олеша
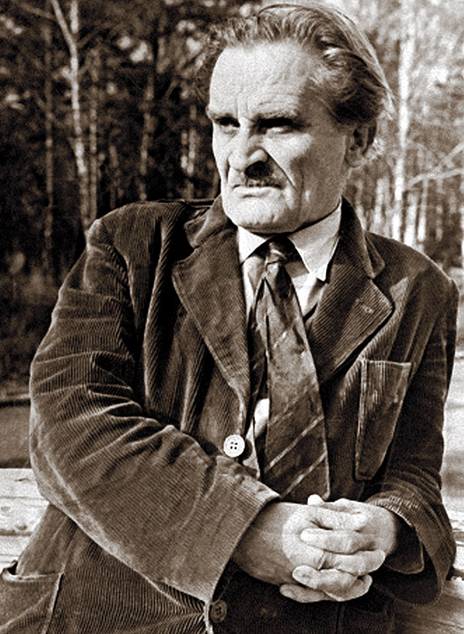
НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДЕТСТВО
Прежде чем предложить вниманию читателя эту книгу, я хочу рассказать историю ее возникновения. Это необходимо, поскольку книга необычна - какие-то отрывки! - и может оказаться не только не понятой читателем, но даже вызвать раздражение.
Книга возникла в результате убеждения автора, что он должен писать... Хоть и не умеет писать так, как пишут остальные.
Однажды я как-то по-особенному прислушался к старинному изречению о том, что ни одного дня не может быть у писателя без того, чтобы не написать хоть строчку. Я решил начать придерживаться этого правила и тут же написал эту первую "строчку". Получился небольшой и, как мне показалось, вполне законченный отрывок. Произошло это и на следующий день, и дальше день за днем я стал писать эти "строчки".
Мне кажется, что единственное произведение, которое я могу написать как значительное, нужное людям, - книга о моей собственной жизни.
В прошлом году распространился слух, что я написал автобиографический роман.
В ресторане Клуба писателей, через который я проходил, вдруг, подняв неожиданно на меня лицо, Тараховская, автор детских стихов и, конечно, взрослых эпиграмм, спросила меня:
- Это правда, что вы написали автобиографический роман?
Я сказал, что нет, она огорчилась - по лицу было видно, что огорчилась.
- Боже мой, а говорят, такой замечательный автобиографический роман.
И мне самому стало жаль, что я не написал романа. Я очень нежно, благодарно попрощался с ней.
Я вспоминаю только один из фактов. Еще со всех сторон я слышал о моем романе.
Что же, очевидно, хотят, чтобы я именно написал, если верят в слух, если сами распространяют. Может быть, нужно написать, если этого хотят современники? Причем просто подсказывают форму - автобиографический роман... Этим, кстати, показано понимание характера моих писаний.
Попробовать?
Ну вот начало.
Я шел в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская, - вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зеленых скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них.
Часовой магазин Иосифа Баржанского.
Часы над улицей.
Стрелки кажутся мне величиной в весла... Нет, это все...
Я сейчас выскажу мысль, которая покажется, по крайней мере, глупой, но я прошу меня понять.
Современные прозаические вещи могут иметь соответствующую современной психике ценность только тогда, когда они написаны в один присест. Размышление или воспоминание в двадцать или тридцать строк - максимально, скажем, в сто строк - это и есть современный роман.
Эпопея не представляется мне не только нужной, но вообще возможной.
Книги читаются сейчас в перерывах - в метро, даже на его эскалаторах, - для чего ж тогда книге быть большой? Я не могу себе представить долгого читателя - на весь вечер. Во-первых - миллионы телевизоров, во-вторых - в колхозах - надо прочесть газеты. И так далее.
Вот я уже не просто пишу, как писал первые страницы, а сочиняю. Это началось в тот же момент, когда я подумал, что в конце концов из записей этих может получиться книга. Я уже правлю, пишу одно и то же...
Надо обязательно написать что-либо целиком, закончить. Может быть, о переводных картинках? Может быть, о брате из Политехнического института Петра I?
Пусть я пишу отрывки, не заканчиваю - но я все же нишу! Все же это какая-то литература - возможно, и единственная в своем смысле: может быть, такой психологический тип, как я, и в такое историческое время, как сейчас, иначе и не может писать - и если пишет, и до известной степени умеет писать, то пусть пишет хоть бы и так.
Некоторым может показаться, что я в этих отрывках гоняюсь за какой-то индивидуалистической ерундой, как-то хочу выпятить себя, свое отношение к миру. Это не так. Я хочу, чтобы у нас писали хорошо. И у меня есть надежда, что я могу кое-как помочь в этом отношении. О, ни в коем случае эта книга не является выпадом против кого бы то ни было!
Главное свойство моей души - нетерпение. Я вспоминаю, что всю мою жизнь я испытывал мешавшую мне жить именно заботу именно о том, что вот что-то надо сделать, и тогда я буду жить спокойно. Эта забота рядилась в разные личины: то я предполагал, что это "что-то" - это роман, который надо написать, то это хорошая квартира, то очередное получение паспорта, то примирение с кем-либо, - на самом же деле это важное, что надо было преодолеть, чтобы жить спокойно, была сама жизнь. Таким образом, можно свести это к парадоксу, что самым трудным, что было в жизни, была сама жизнь - подождите, вот умру, и тогда уж буду жить.
Между тем я всегда был оптимистом и очень любил жизнь. Я до сих пор помню то наслаждение, которое я испытывал, вдыхая запах свежеокрашенных зеленой краской дощечек, на которых я собственноручно выводил белилами имена лошадей, над чьими стойлами должны были красоваться эти дощечки... Масляная краска вдувала в тело здоровье. По всей вероятности, так пахнул именно скипидар. А лошади? Видел ли я их? Не помню. Лошадей я и не приметил. Я видел только дощечки цвета луга и белые, почти колбасками возвышавшиеся над плоскостью дощечки буквы. Я исполнял эту работу, как любитель, как мальчик, которому разрешили делать нечто сверхжеланное...
Ничего не должно погибать из написанного. А я писал карандашом на клеенке возле чернильницы - причем в чужом доме, писал на листках, которые тут же комкал, на папиросной коробке, на стене. Не марал, а именно писал вполне законченно, работая над стилем. Хорошо бы вспомнить, что писал.
Помню отрывок об Эдгаре По - как его несут подобранного в сквере с волочащимся по земле краем пальто. Помню по поводу писем Ван Гога - какой он скромный, как в своей скромности уговаривает он брата, что, в конце концов, и он мог бы заниматься живописью - подумаешь! Помню о том, что моя заветная мечта - сделать сальто-мортале. Еще целый ряд отрывков. Есть где-то в папках Гершель, поднимающийся с гостем в обсерваторию, затем мое, гимназиста, удивление по поводу того, что латынь это не что иное, как язык древних римлян. Еще раньше - отрывок о том, как умер oт скарлатины гимназист Володя Долгов и мы пришли на похороны, как мы шли по переулку, и казалось, церковь идет нам навстречу. Там же об окне, раскрытом среди зимы, по которому вьется, вылетая из него, занавеска, чем-то напоминающая рыдание - образ смерти. Еще много отрывков, картин, набросков, мыслей и красок.
Нужно сохранять все. Это и есть - книга.
Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?
Все более убеждаюсь, что эти записи ничего не стоят.
Я болен; у меня болезнь фразы: она вдруг на третьем или четвертом звене провисает... Я почти конкретно вижу это выгнувшееся книзу брюхо.
Может быть, мне диктовать?
Мне хочется, чтобы фраза бежала, а не сочинялась так, когда следующая ее часть как бы отскакивает от предыдущей.
Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.
Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с некиим молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается... Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.
А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?
Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание - хотя бы немного - в памяти нашей приблизиться к нему.
В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди
глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения... Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некиими... я даже не могу определить... некиими продолжающимися в глубине сознания воплями.
Удивительна работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе: "вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства". Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало, таким образом, она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю место во мне целом, не имеющем желаний и имени! Я почти рядом с собой. Я разговариваю, а весь я принадлежу в это время природе, и она не знает, что я, разговаривая, сижу на диване в кабинете. Я электрическое нечто в потоке электричества по всей вселенной, в потоке материи.
Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.
Я постоянно делаю усилия в этом смысле... Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?
Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.
Я ем арбуз под столом - причем я в платье девочки. Красные куски арбуза... Вот что встает передо мной, как наиболее раннее воспоминание. До того - темнота, ни одной краски.
Первое, что я помню, - это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами... Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной.
Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоградом. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи - вот все мое восприятие города, где я родился.
О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось "Юнище". Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, - и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных... Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он - в клубе. Клуб - одно из главных слов моего детства.
- Папа в клубе.
Общее мнение, что папе нельзя пить - на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить "это", падает перед ним на колени...
Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать, - вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступном обыкновенным, не связанным с войной людям, револьвер стал некоей изящной вещицей, игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер, почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик?
Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка - однако ясно: отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, теще, теткам. Считается, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить - и он превращается в зверя.
Отца я, можно сказать, помню совсем молодым. Пожалуй, ему нет еще и тридцати лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню. Помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы: я в дверях, и папа входит в двери из комнаты, куда хочу войти я, там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я теперь, стоит молодой человек, низко и мягко постриженный, я вижу, как молодо поворачивается его плечо...
Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем, - может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни.
Хоть в моей памяти и не удержалось реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая. Говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мной ее фотография тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами - молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина.
Ее звали Ольга.
В детстве говорили, что я похож нa отца. Между тем в ту пору, когда я уже научился понимать, что зеркало отражает именно меня, - научился, если можно так выразиться, смотреть в зеркало, - я, наоборот, увидел сходство с матерью, а не с отцом. Я сказал об этом открытии, надо мной смеялись. Мнение, что я похож на отца, утвердилось настолько крепко, что, повторяю, надо мной смеялись! Но сколько я ни бросал взглядов в зеркало, каждый из них говорил мне, что я прав - из моего лица смотрело на меня лицо мамы. Из моего загрязненного всякими нечистыми помыслами лица мальчика - прекрасное лицо матери! Не знаю, почему только один я видел в те годы это сходство, но действительно только один я его видел. Однако понемногу и другие стали восклицать:
- Похож на маму!
И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моем лице начинает жить также и сходство с матерью. Это с годами, это когда из мальчика я стал превращаться в юношу... Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственней проступало сходство с матерью. Чем убежденней чувствовал я, что стою у волшебного порога какого-то иного существования, связанного с женщиной, тем дольше задерживались на моем лице нос, губы, очи именно матери.
И затем, вступив в жизнь, я не представлял себе себя иначе, как похожим на мать.
По старому стилю я родился 19 февраля - как раз в тот день, в который праздновалось в царской России освобождение крестьян. Я видел нечто торжественное в этом совпадении; во всяком случае, приятно было думать, что в день твоего рождения висят флаги и устраивается иллюминация.
С утра я получал подарки. Помню синеватый дым от пистолетных выстрелов, помню переводные картинки какого-то особого свойства, помню подаренные мне кем-то - только подумать! - золотые пять рублей. Они долго сохранялись в маленьком кожаном кошелечке; ужасно сложные и непонятные чувства вызывал этот мощный золотой кружок среди грязноватых складок кожи! На нем было маленькое же изображение царя с выделявшимся чистым блестящим лбом. Пять рублей были в то время очень большой суммой. Ее можно было положить как основу для самого яркого мечтания - купить велосипед, поехать за границу... не помню судьбы этой суммы. Кажется, ее одолжили у меня взрослые и не отдали.
Что такое иллюминация? Это фонари из грубого стекла - одна полоса красная, другая зеленая, третья желтая. Не полоска, а вернее, грань - фонари, как кажется мне, были шестигранные. В них, вставленная в гнездо с зубчатыми краями, горела свеча. Это был очень мутный свет - сквозь стекла, испачканные в сараях! Тем не менее, когда они висели целыми дюжинами на протянутых между деревьями проволоках - это что-то значило - во всяком случае, для детской души.
Ни с чем не сравнимое горе я испытал ребенком лет четырех в связи с отъездом домой гостившего у нас моего двоюродного брата. Его звали Володя, и он был студент какого-то института, дававшего право носить на плечах квадратные, изгибающиеся по плечу погончики из металла, бархата и большой блестевшей золотом буквы с цифрой. Студент был блондин, довольно полный, с котлообразной, но красивой головой. Это более поздние впечатления, в тот раз я воспринимал только великолепие какого-то существа - великолепие, которое я, разумеется, не мог анализировать, но которым я наслаждался и физически и душевно, наслаждался, ликуя каждой частицей своего существа, как даром богов, как гигантским, оказавшимся в моем распоряжении куском чего-то волшебного, чего в раю много, а у нас бывает только в виде одной сразу исчезающей улыбки или еще чего-либо, тотчас же из жизни улетающего в воспоминание.
О, какая сцена была в моем детстве! Вот мы идем с бабушкой из парка - с одной стороны я, с другой моя сестра. Бабушка воспринимается как некий серый треугольник между нами. Мы идем из прелестного в своих сумерках парка... Вот уже улица, вот уже серые барабаны зданий.
- Что такое? - говорит бабушка. - Ой, что такое? И мы, мальчик и девочка, тоже удивлены.
- Ой, ой, правда, что такое?
Дело в том, что день обычный, не праздник. Почему же горит иллюминация?
И тогда я, маленький мальчик, подхожу к городовому. Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городовой прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит:
- Наследник родился.
- Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по булыжникам, между которыми трава.
Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения:
- Подстригите наследника.
Я, вероятно, совсем маленький мальчик, стричься меня еще водят. После сказанного я иду по коврику к креслу и зеркалу, возле которых ждет меня парикмахер, весь в белом, как вафля.
- Подстригите наследника!
Мне это тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник? Вообще папы, его повторение?
Просто словечко, приобретенное в данном случае не папой. Так уж принято было тогда говорить о сыне-наследнике. Чего наследник? Я был один, один в мире. Я и сейчас один.
Среди булыжников росла трава. Булыжники синели. Как давно я не видел булыжника, как давно не держал в руках. Он всегда был нагрет и всегда оставлял на руке пыль, которую отряхивали ударами ладони о ладонь. Он меня постриг, этот вафля-парикмахер, и я до сих пор помню, как холодно голове после стрижки, каким широким становится воротник и как два толстых пальца парикмахера, как два ствола, влезают за воротник, чтобы вынуть, как им кажется, остатки волос.
Она приехала из Сибири, ее звали Галька. Очевидно, она была совсем еще молодая. Я помню нечто в темных тонах, отдельную прядь темных же волос.
В Одессе была зима - и, главное, необычно холодная для Одессы. Я помню окна, за которыми снег. Сестру-гимназистку не пустили в это утро в гимназию. Мы сидим в темной, хоть за окнами снег, столовой (они выходят в стену, окна) и заняты каким-то детским рукоделием - кажется, делаем какой-то театр. В руках у меня кусок обоев, от которых, сказал бы я, делается на ладонях и пальцах оскомина, и столбики разноцветных карандашей. Я ими рисую на обоях покрытые снегом ели, сугробы снега, дорогу...
Приехавшая из Сибири тетя добродушно участвует в рукоделии с сестрой-гимназисткой.
Я не помню, чтобы у нас устраивали елку. Всегда наши радости по поводу елки были связаны не с елкой, устроенной у нас в доме, а с елкой у знакомых. Там, в чужом доме, бывали бал, дети, конфеты, торты. Впрочем, я, кажется, деру сейчас из стихов и рассказов... Во всяком случае, мы и дома получали подарки - книги, широкие дорогие книги.
Конечно, запах хвои - это навеки, и мягкие иголки ее тоже. Хвоя имела право засорять паркет, она накоплялась во все большем и большем количестве, в углу, под елкой, пересыпалась в другие комнаты, смешивалась со стеклом украшений, которые в конце концов тоже валились на пол, похожие на длинные слезы, и кончалось все это тем, что елку уносили из дому, взвалив на плечи, как тушу.
После Катаева, Пастернака мало что можно добавить к описаниям елки, рождества.
Господин Орлов пошел с дочкой на елку в гости, и там, когда дети танцевали, елка опрокинулась, в результате чего дочка Орлова сгорела. В тот день, когда ее похоронили, он пошел в цирк. Мы, дети, ужасались, когда нам рассказывали об этом, но взрослые оправдывали Орлова - он, говорили они, очень горевал и именно поэтому пошел в цирк. Одно из самых сильных переживаний - это как раз Орлов в цирке после похорон дочки. Мне и теперь кажется, что я вижу его несколько раскоряченную фигуру в первом ряду кресел над желтой ареной, усы под носом и кружки пенсне.
Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону - надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды, - я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды.
Мне было, я думаю, пять лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали по имени, не помню. Помню фамилию - Архарова.
Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика - там, где была третья гимназия, в районе, на мой взгляд, чудесном, не совсем еще загородном, но уже близком к морю, уже с виллами, с розами, клетками попугаев на балконах.
Сумерки, но мы, дети, еще на улице. Вероятно, поблизости взрослые, но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе - дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо, чувство слагалось из каких-то других предпосылок - вот хотелось, например, так же, как и она, наклониться то вправо, то влево, чтобы подтянуть одежду.
Я помню какие-то балясины, тонущие в траве... Может быть, это были перила террасы? И там, говорили, живет старая дама, у которой много кошек. Ни старой дамы, ни кошек я не видел. Мы туда не подходили - близко к дому. Особенно
значительным он становился в сумерки, когда бывало наиболее страшно, что вдруг появятся кошки и старая дама. Одно из окон на повороте цоколя, серо, как после дождя, поблескивало над садом...
В конце концов, неважно, чего я достиг в жизни, - важно, что я каждую минуту жил.
Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук - глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку... ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.
- Бабушка, - обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате. - Ты слышишь?
Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые.
Однажды мой отец принес домой или купленную им, или подаренную ему маленькую обезьянку.
Мы были маленькие, ложились рано - отец же принес, по всей вероятности, этот подарок или покупку из клуба, и, таким образом, обезьянка оказалась для нас появившейся вместе с утром, с солнцем. Теперь мне кажется, что на ней была какая-то одежда - синие штаны? - но вернее всего он был только в своей собственной шерсти, этот маленький золотой зверек. Какая-то шутка вилась вокруг него - не то папа стал его владельцем, потому что был пьян, не то обезьянка оказалась у него в результате пари - словом, чем-то, сам того не ведая, зверек был и унижен, и осмеян, и оскорблен.
На руках у кого-либо мы так его и не увидели. Непостижимо, как принес его папа! Он все время был в отдалении от нас - причем в отдалении, непреодолимом для нас, не гимнастов - в отдалении, перед которым громоздились то углы растворенных окон, то сразу целые пучки деревьев, то вдруг вся улица... Он удалялся от нас прыжками, гигантскими, как арки, и когда нам казалось, что дворник вот-вот схватит его по соседству с дымовой трубой, вдруг из соседней улицы раздавался полный восторга крик:
- Мартышка! Смотрите, мартышка!
Никто уже не может вместе со мной вспомнить эту картинку из моего детства. Никто не может, бывший в ту пору старше меня, рассказать мне, чем окончилась история обезьянки. Для меня лично вид крыш, дымовых труб, вид того, что открывается нам с так называемого птичьего полета, вызывает в памяти другую картинку. Не картинку, а картину - огромную, в раме неба, когда высоко-высоко, куда трудно-трудно смотреть, почти как на солнце маячит золотая точка воздушного шара.
В детстве мне ни разу не удалось запустить змея. Я ни к кому, правда, не обращался за инструкцией - я знал, что необходимо некое соединение ниток, так сказать, у морды змея, именуемое путой, но какое именно соединение следует сделать, я не знал. Между тем от состояния этой злосчастной путы и зависело - полетит змей или будет бежать скача по земле, рогатый в эту минуту, как козел.
Да, на козлов были похожи эти мои нелетающие змеи. Да-да, у них были рожки - концы планок, торчавшие в прорвавшейся наверху бумаге. Хвост змеи казался бородой такого злого и глупого козла.
Страдания эти мои происходили на Михайловском поле.
Возможно, что я собираюсь описать именно первое мое посещение театра.
Мы, то есть я и моя сестра, были приглашены богатыми Орловыми в театр на "Дети капитана Гранта". Эта пьеса показывалась тогда в Одесском городском театре с шумным успехом. Я не помню всего по очереди - помню только с того момента, когда я, сидя в том, что названо ложей, оглядываюсь и вижу золотистую, освещенную снизу стену, которая тут же начинает казаться мне не стеной, а уже летним солнечным садом, по которому прогуливаются фигуры в необыкновенных, как представляется мне, турецких одеждах. Это занавес. Это еще не театр. Это еще только занавес.
Сегодня, 30 июля 1955 года, я начинаю писать историю моего времени. Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II... Что было в технике? Очевидно, еще не знали о мине, которой можно взорвать, не приближаясь к нему и неожиданно, броненосец. Мина эта стала известна позже - в русско-японскую войну. Тогда же стал известен пулемет, впервые примененный японцами и называвшийся митральеза...
Итак, мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи, - вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо - вот слова, которые я слышу в детстве.
Мина казалась ужасным изобретением, последним, что может придумать направленный на зло мозг, дьявольщиной.
- Мина Уайтхеда.
Кто-то произносит это над моим ухом - может быть, произносит книга... Она, мина, скользит под водой, попадает с безусловностью неумолимо - и броненосец валится среди синей ночи набок, посылая белый луч, чем-то похожий на мольбу.
Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян - называется "а папу не возьмут на войну?".
Когда я был маленьким, в мире еще уделялось немало внимания фейерверкам. Редко какой праздник обходился без целого апофеоза из ракет, римских свечей, бураков, шутих... Из этого разноцветно взрывающегося, стреляющего, пестро и огненно вращающегося материала организовывались даже законченные зрелища в честь текущих или исторических событий. Так, я помню большой фейерверк по поводу гибели русского крейсера "Варяг" в японскую войну.
Придя на место праздника на другой день, серым утром, можно было увидеть скелет его - палки, проволоки, веревки. В этом скелете можно было узнать очертания броненосца, который вчера, среди взлетающих синих и зеленых ракет и вертясь пунцовым огнем так называемого солнца, сгорал у всех на виду.
Можно было также находить пустые гильзы ракет - синие трубки, пахнувшие гарью, которые очень хотелось заставить жить еще раз. Нет, они были мертвы - просто картоны, пустые, постукивая, катились, подброшенные носком ботинка...
Где-то в каких-то полуподвалах таились пиротехники - по всей вероятности немцы, умевшие все это делать. Я никогда не видел пиротехника, последнего из удивительных людей перед появлением авиаторов.
Ракета представляла собой при первом взгляде на нее синюю картонную трубку, насаженную просто на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепкой ракета вкапывалась в грунт, чтобы пустить ее, вы поджигали фитиль, еле видимый, торчавший из донышка трубки.
В пасмурный летний день - и тем более летний, что он был пасмурный, когда зелень прямо-таки красовалась на сером фоне, - мы с бабушкой стояли в парке над панорамой порта и распростертого до горизонта моря и смотрели на то интересное и новое для нас, что происходило в порту. Мое внимание останавливалось, главным образом, на некоей лошади - черной, которую вели под уздцы. Конечно, слово "гроб" фигурировало в нашем переговаривании с бабушкой, поскольку мы смотрели на похороны, но я не помню гроба. Наверно, был и катафалк, - вернее всего даже лафет, поскольку похороны были военные, но я смотрел только на лошадь. Я не знал тогда, что есть обычай вести за гробом военного его боевого коня, и, увидев это впервые, стал весь принадлежать этому зрелищу. Я не видел на таком расстоянии ни глаз лошади, ни губ, ни гривы, как рельефа волос, - просто двигался силуэт лошади, даже не силуэт, а, скорее, какое-то ватное ее изображение, из черной ваты, глухо-черное.
- Генерал Кондратенко, - то и дело повторяла бабушка.
Хоронили генерала Кондратенко, чей прах привезли из
Маньчжурии, где он погиб на войне с японцами.
Вскоре похороны исчезли из поля нашего зрения. Невидимо для нас они проследовали из порта в город и пошли затем по улице, которая впоследствии стала называться улицей Кондратенко. Мы остались с бабушкой в парке среди серого, я бы сказал, полного, круглого воздуха, рассекаемого острыми листьями некоторых деревьев и, наоборот, получавшего еще большее округление от кругло ложившихся на него сережек некоторых деревьез - мелких-мелких сережек, собранных в висюльки и венчики кремового цвета с каким-то треугольным присутствием зеленого.
- Генерал Кондратенко, - то и дело повторяла бабушка.
Дворец главнокомандующего находился на бульваре, на углу бульвара и той дуги, которая у входа на бульвар, дивной дуги из великолепных, в стиле русского ампира, зданий.
Дворец и был одно из этих зданий - вот именно, как раз у конца дуги - или начала? Нет у дуги ни конца, ни начала.
У входа во дворец шагал часовой, иногда входивший в полосатую будку. Вот какие древности мне известны - полосатые будки.
Я шел с кем-нибудь из взрослых. Еще не подойдя, я поглядывал на взрослого. Смотрит ли он на часового? На будку? Смотрит, конечно.
- Дворец главнокомандующего, - говорит взрослый.
И взрослым, как детям, импонируют такие вещи, как командование, часовые.
Я был сыном акцизного чиновника, и семья наша была мелкобуржуазная, так что мятеж броненосца "Потемкина" воспринимался мною, как некий чудовищный по ужасу акт. И, когда броненосец "Потемкин" подошел к Одессе и стал на ее рейде, все в семье, в том числе и я, были охвачены страхом.
- Он разнесет Одессу, - говорил папа.
"Потемкин" для нашей семьи - взбунтовавшийся броненосец, против царя, и хоть мы поляки, но мы за царя, который в конце концов даст Польше автономию. Употреблялось также фигуральное выражение о неоставлении камня на камне, которое действовало на меня особенно, потому что легко было себе представить, как камень не остается на камне, падает с него и лежит рядом.
Я не помню, как он появился у берегов Одессы, как он подошел к ней и стал на рейд. Я его увидел с бульвара - он стоял вдали, белый, изящный, с несколько длинными трубами, как все тогдашние военные корабли. Море было синее, летнее, белизна броненосца была молочная, он издали казался маленьким, как будто не приплывший, а поставленный на синюю плоскость. Это было летом, я смотрел с бульвара, где стоит памятник Пушкину, где цвели в ту пору красные цветы африканской канны на клумбах, шипевших под струями поливальщиков.
Мне было тогда шесть лет. Я хочу себе дать отчет в том, что я тогда понимал и чувствовал. Я, конечно, не понимал, почему на броненосце произошел мятеж. Я знал, правда, что этот мятеж против царя. Чувствовал я, как я уже сказал, страх.
То, что происходило в городе, называлось беспорядками. Слова "революция" не было.
Стараясь понять, что мне грозит, я приходил к выводу, что, безусловно, злые люди, вроде разбойников, хотят всех поубивать, ограбить и что, пожалуй, хуже всего придется детям, которых эти разбойники особенно ненавидят.
Поразительно: ведь я слышал выстрелы "Потемкина"! Их было два, из мощных морских девятидюймовок. Один снаряд попал в угол дома на Нежинской, другой - я не запомнил чуда. Изображение этого поврежденного угла дома я потом видел на фотографии в "Ниве".
Оба выстрела пронеслись над моей головой - два гула, заставившие меня пригнуть голову. До этого я никогда не слышал орудийного выстрела. Мне показалось, что над моей головой летит что-то длинное, начавшееся очень далеко и не собирающееся окончиться. Подумать, что в тот момент, когда я переживал недоумение, ужас, где-то на залитой солнцем палубе стояли комендоры с усиками, заглядывали в артиллерийские приборы, спорили среди развевающихся лент, шутили... Я нес кулек с вишнями в ту минуту. Меня послали за вишнями, и вот я возвращался по лестнице черного хода.
Дома - страх, разговоры почти шепотом. Затем эпопея с перенесением тела убитого Вакуленчука в порт, кажется, на Платоновский мол. Имя Вакуленчук я услышал тогда, оно не потом вспомнилось, оно прозвучало, в нашей столовой и остановилось под потолком.
Убитый матрос лежит в порту. Это грозит нам бедствиями. Это было жарким летом, когда цвели каштаны и продавались вишни. И меня послали за вишнями как раз в тот час, когда "Потемкин" дважды выстрелил по городу. Он не хотел стрелять по городу, он метил в городской театр, где заседал военный совет под председательством генерала Каульбарса, но промахнулся, и оба выстрела пришлись по городу.
В качестве испугавшихся возможной бомбардировки города "Потемкиным" мы бежали на станцию Выгода - одну из ближайших от Одессы, но уже в степи, уже во владениях немцев-колонистов. После короткого путешествия в поезде мы ехали в бричке. Тогда впервые я познакомился с бескрайностью степи, с ее жарой, с ее лиловатостью. Мне скорее не понравилось все это; по всей вероятности, я воспринимал эти картины сквозь тошноту, вызванную укачиванием брички, стоявшим в зените солнцем, тревогой, непривычным распределением часов еды. Подпрыгивающие крупы лошадей, раскачивающиеся хвосты с блуждающей у их корня шлеей, мухи, летящие вместе с бричкой, как бы стоящие в воздухе в виде люстры, черные четырехугольники полей на горизонте - как могло это не казаться болезнью, не вызывать тошноты?
Это состояние непривычности, тошноты, тоски продолжалось и тогда, когда я уже оказался в хате у немца, возле окна... Там, за окном, так же тошнотворно, как и все, что я видел, вели себя куры. То они шли медленно, вытягивая перед собой белые лапы, то вдруг, увидев что-то, быстро бросались бежать; опять шли, опять бежали; опять шли, опять бежали... Жара пела, звенела, разговаривала, открывала глаза, закрывала глаза.
Село жило своей жизнью. Оно, может быть, и не знало, что Одесса осаждена. Тут жили сонные, огромные, страшные люди, которых звали Фридрих, Бруно, Юстус, Бруно, Фридрих, Юстус. Они подходили к окнам и смотрели на нас; не стесняясь, перешептывались, толкали друг друга локтями. Где-то за мной в глубине комнаты лежит мама со своей дамской прической, где-то лежит папа.
А потом зато вечер! О, вечер был такой чудесный! Такой чудесный был вечер! Такой чудесный!
Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек смешило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на описанном жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного... Я съезжал то в один, то в другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте - причем страдал и от того, что причиняю коню боль.
Два мальчика, один повыше, другой пониже - карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма стоящий выше меня на много ступеней, - бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь.
Жеребец понесся в сторону табуна, из которого он недавно был откомандирован. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела - чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела?
Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас же гордо отпрянул от меня, хлестнув меня освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом... Мальчики хохотали, мне было стыдно - я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо... Вот тогда, в этот закатный час в степи под Вознесенском, и определился навсегда мой характер.
Приходит в голову уже из одной и той же сферы - матрос Грос, 1905 год, пожар порта, Каульбарс, поездка в Мангейм, директор гимназии, футбол. Приходят в голову разные ходившие в парке насекомые (некоторые прикрывались буквально щитами, изнемогая под их тяжестью), приходят в голову морские офицеры с крестообразными черно-золотыми кортиками, гулявшие с дамами в белопенных шляпах, приходит в голову маэстро Давингоф, дирижировавший оркестром в кафе на бульваре, сидя верхом на белой лошади.
Приходят в голову лиловые цветы - маленькие лиловые кипарисы, названия которых я так никогда и не узнал, спускавшиеся от меня направо по откосу вниз к лугу, пока я, и папа, и еще кто-то третий шли к Аркадии куда-то не то в больницу к кому-то, не то в частный дом, который оказался весь наполненный солнцем и стоящими поперек стеклянными дверями.
Я слышал звук взрыва бомбы, которую бросил анархист в кафе Дитмана в Одессе в 1905 году. Все испуганно переглянулись в это мгновение: я, бабушка, папа, мама, сестра, знакомый, знакомая. Звук, сперва быстро взлетевший кверху, потом как бы стал оседать и расширяться. Все это, правда, в одну десятую долю секунды.
Все спутано в воспоминаниях о той эпохе. Городовой зарубил саблей офицера в театре. Хоронят офицера с венками, на которых надпись: "За что?"
Убили пристава Панасюка. Идет дождь. Погром. Сперва весть о нем. Весть ползет. Погром, погром... Что это - погром? Погром, погром... Затем женщина, дама, наша соседка вбегает в гостиную и просит спрятать ее семейство у нас.
Велят вешать, если за дверью христиане, икону на двери... Утром я вижу в Театральном переулке над входом в какой-то лабаз комнатную икону: между карнизом окна второго этажа и балкой над дверью. Сыро и пасмурно после дождя.
Однажды, выйдя на железный балкон, куда выходил наш "черный ход", и посмотрев в сторону двора, я увидел идущим через двор по направлению к нашей лестнице откуда-то возвращающегося папу.Он, которого я привык видеть с усами, был теперь без них, он сбрил усы. Лицо его показалось мне толстым, мясистым - красное, как мне показалось, мясистое лицо под соломенным канотье!
Это была сенсация - Карл Антоныч сбрил усы!
Долго обсуждалось это обстоятельство - семьей, соседями, всем двором, приходившими в гости знакомыми. Папа и сам почти не отрывал лица от зеркала, а когда мы, дети, обступали его, надувал щеки, строил рожи, чтобы сделать себя еще более смешным!
Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть? Например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца... Мог ли я после этого есть яйца?
Они продавались в так называемых табачных лавках, где продавались еще и марки, и гимназические тетрадки. Ракета стоила, кажется мне, рубль. По виду это была синяя трубка, насаженная на щепочку вроде тех, какими подпирают цветы. Этой щепочкой снаряд вкапывался в грунт... Имелся фитиль - черный скрюченный хвостик, торчавший из донышка трубки. Чтобы запустить ракету, его-то и поджигали - но я никогда не видел, как это делается, я видел только праздник, только пожар, ликование, только павлиньи хвосты, я слышал только пальбу и только свист уносящейся кверху ракеты, свист в полной тишине синей бархатной ночи, свист, терявшийся в вышине некоей высоко взлетевшей светящейся точки... Только это, только их волшебство знал я о ракетах - а самой ракеты я никогда не держал в руках.
Табачная лавка находилась тут же при выходе из дому, налево от ворот. Хозяин ее был Исаак.
- Пойдите к Исааку.
Или:
- А у Исаака нет?
На вывеске у Исаака было написано огромными, величиной в стул буквами только одно слово: "Табак". Это были стандартные вывески для всех лавок такого рода - вероятно, по образцу недалекой от Одессы Турции, - я бы сказал, вывески довольно красивые.
Исаак стоял за сравнительно высокой узкой конторкой и, открыв крышку, вынимал марки. Марки хранились бережно - это было что-то вроде денег, валюты. Маленькое синее изображение царя. Стоила марка семь копеек. Ребенка часто посылали за марками. Как хорошо и долго я помнил эту цену, помнил именно эту цену - семь копеек. Вот и теперь помню. Теперь на детях не лежит обязанность покупать марки.
Исаак был круглолицый, с шелковистой молодой бородкой, приветливый. Магазин у него был маленький - собственно, лавочка, табачная лавочка, - однако чистый, поблескивающий лакированным деревом прилавка и конторки - верно, входя сюда, можно было тотчас же почувствовать, как Исаак и его жена Маня любят свою лавку и хотят, чтобы покупателям нравилось побывать в ней.
Детское воспоминание сохранило Маню.
Маня была тоже молодая, томная, с беспорядочными, но нарядными волосами и говорила с еврейским распевом - ласковым и почти в каждой фразе заканчивавшимся вопросительной нотой.
- А-а? Арифметическую? Нет, в линейку-у?
Хотя лавка называлась табачной, но в ней, как всегда в ту эпоху, кроме всего, что относилось к курению, продавались тетрадки, марки, письменные принадлежности, листы разноцветной глянцевой бумаги для прикалывания кнопками для письменных столов, переводные картинки, которые, кстати говоря, обычно содержались целыми листами с мутно-лиловыми пятнами еще не переведенных картинок в общей тетради. Это все, конечно, кроме табачных изделий. Табачные изделия - это были папиросы, коробки с табаком, гильзы. Что самое удивительное, это то, что в табачной лавке можно было купить также и ракету.
- Исаак, - спросил я однажды, - у вас продаются и ракеты?
Хотя я был мальчик, но я, как и все вокруг, называл Исаака по имени.
- Есть римские свечи, - сказал Исаак. - Ракета стоит один рубль, это римская свеча.
Как я вздрогнул, когда услышал это название! Почему именно свеча? Почему римская?
- Это какие?
- Откуда мы знаем какие-е? - отозвалась Маня. - Тебе подарили на именины пять рубле-ей, а ты хочешь на ракеты-ы? Исаак, ты слыша-ал, ему бабушка подарила пять рубле-ей?
Весь двор знает, что мне бабушка подарила пять рублей. В парикмахерской, куда я пошел, меня послали постричься, я по требованию Жоржа, хозяина, даже раскрыл портмоне, которое мне тоже подарила бабушка, и вынул из него золотую монету, показал всем, чтобы увидели все присутствующие.
Я шагнул через ступеньку на другую (всего их было две) и вошел в магазин. Что он ярко освещен, я понимал еще на улице, приближаясь к крыльцу, так как его окна и дверь виднелись на довольно большом расстоянии в виде желтых световых, преграждающих мне путь плоскостей. Войдя, я по-настоящему оценил качество освещения - магазин, казалось, просто моется в свете. Правда, он вдруг начинал казаться ванной, все продававшееся в нем можно было принять за то, что плавает в еще не тронутой воде ванны: мыло, мочалку, игрушку... Тем не менее это был магазин гастрономический.
Покупать в этом магазине называлось "покупать у немца".
Мне было запрещено выходить во двор.
- Он играет с мальчишками.
Я был сын того, кого называли барином и кому городовой отдавал честь. Правда, отец был бедный человек, тем не менее барин. Мне нельзя было играть с детьми не нашего, как тогда говорили, круга - с мальчишками.
Однажды после обеда, когда я думал, что отец спит, я решил все же выйти во двор. Я сделал это не сразу, но как бы для того, чтобы уменьшить преступление, сперва выпил в кухне кружку воды из-под крана - холодной воды из эмалированной синей с белыми пятнами кружки, похожей, конечно, на синюю корову. До сих пор помню ненужный унылый вкус воды. Потом вышел на крыльцо.
Как только я сделал несколько шагов от крыльца, как был окликнут высунувшимся в окно отцом. Я должен был вернуться, как приказал отец, и был отцом высечен - если можно назвать этим словом наказание, когда бьют не розгами, а просто ладонью, однако по голому заду.
Он был очень зол, отец - вероятно, потому, что проигрался, как в подобном рассказе Чехова, в этот день или по другой причине. Я помню, что я почти вишу в воздухе в позе плывущего и меня звонко ударяют по заду.
Больше и дальше я ничего не помню. Лучше всего в этой истории это то, что я все же счел нужным преуменьшить преступление, а также и то, что кружка была похожа на синюю корову.
В другой раз я подвергся физическому наказанию со стороны отца, когда ехал с ним и с мамой в купе вагона второго класса тогда еще царской железной дороги из Крыма.
Мы были в Крыму, мы были в Крыму! Там на веранде художник с патлами и в пенсне стриг пуделя, выходившего из его рук все более худым, все более голым, все более дрожащим; там белел в лунном свете дворец Воронцова в Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня садили верхом, отчего тайно для всех было больно моему половому органу...
Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!
В магазине Колпакчи на Екатерининской улице продавались детские игрушки. Наиболее привлекали к себе внимание - да просто вы окаменевали, глядя на них! - волшебные фонари. В них была всегда вложена пластинка с изображением - с торговой, так сказать, целью: посмотрите, мол, как это делается. Бледная туманная пластинка из матового стекла, которая... Нет, это очень неясное описание! Он был заряжен, этот волшебный фонарь, вот как надо сказать - заряжен, и если бы можно было зажечь лампу, стоящую в нем, и если бы в помещении было темно, то можно было бы тут же и пустить его в действие - пластинка появилась бы на стене в виде румяного карминового светящегося изображения какой-нибудь известной всем детям сказки.
Волшебный фонарь был игрушкой, о которой даже не следовало мечтать. Вероятно, это стоило очень дорого. Он стоял, блестя своей черной камерой, как некий петух, глядящий поверх всех. Мы не мечтали о нем. Мы покупали пистоны. Пистолеты у нас уже имелись. Они были куплены на именины - кому осенью, кому весной, кому летом. Это были черные, по всей вероятности, латунные, пахнущие горелым от частой стрельбы изделия, приятно и больно отяжелявшие детскую руку. Пистоны продавались в крошечных кругленьких коробочках из желтого, как бы мокрого, во всяком случае, сморщенного картона. Они лежали в коробочке розовой горкой, требующей долгого кропотливого описания.
Продавались большие листы, на которых было напечатано изображение миноносца в разных, так сказать, видах, причем именно так, чтобы, вырезав эти изображения и склеив по отмеченным линиям те или иные части изображений, можно было в конце концов получить некий объемный миноносец, своего рода модель. Мне никогда не удавалось добиться этого окончательного результата - даже приблизиться к нему. А между тем оказалось, что это не так уж трудно. Изображения эти выглядели чрезвычайно аппетитно. Казалось, только возьмись за ножницы, и через какой-нибудь час на столе будет полулежать перед тобой, как в доке, серое тело миноносца... Но куда там! Умения и терпения хватало, может быть, только на то, чтобы вырезать какой-нибудь кубик боевой башни. Все сминалось затем, расшвыривалось по столу в виде комков бумаги, приклеивавшейся к рукам, повисавшей на кистях рук... И вы плакали, и хотелось, чтобы вас пожалели!
Очевидно, во мне всегда было желание творить самому, все изобрести самому, ни с каким не примириться чертежом!
Когда я в совсем маленьком возрасте рисовал, как мне казалось, русских солдат в бою с японцами, то тогда мне никак не казалось, что я рисую нечто неправильное: я был убежден, что рождающиеся под моим карандашом линии есть именно линии, изображающие солдат.
Взрослые, наблюдавшие, как я рисую, видели совсем не то, что видел я. Мне даже представляется, что я поймал какое-то юмористическое переглядывание взрослых. Да и кроме того, я помню до сих пор замеченное мною тогда колено одного из стреляющих солдат - оно было просто некиим прямым углом, двумя соединившимися под прямым углом линиями. Словом, было все же у меня прозрение, сказавшее мне, что я рисую ерунду...
Это была тетрадка размером приблизительно в открытку, более все же квадратная, чем открытка, толстенькая, увесистая тетрадка, почти книжечка.
Сейчас, на восприятие взрослого, мне представляется, что она состояла примерно из двух десятков довольно плотных листьев, из которых каждый был, я бы сказал, гравюрой с той или иной известной картины.
Так, я почти убежден, что на одном из них была гравюра с "Клятвы в зале для игры в мяч" Давида.
Да, да, безусловно, это были гравюры - помню тонкие параллели штрихов, серые массы изображений, эту темноту всего поля, в которое приятно и заманчиво вглядываться и вдруг узнавать среди темных и клубящихся масс события какую-то освещенную далеким солнцем тропинку, по которой идет ребенок.
Итак, гравюры. Целая книжечка гравюр. Но зачем бы дарить ребенку в день именин такой подарок? Разве это интересно - гравюры?
Я любил вырезать из картона доспехи. Лучше всего удавались набедренники в виде, как и полагается, некоего пояса с нишеобразным вырезом под животом. Это удавалось, но дело не шло дальше примерки, когда мои бедра оказывались охваченными действительно хоть и картонным, но все же похожим на рыцарский, набедренником. Но ведь нужно было и скрепить этот набедренник где-то на пояснице, чтобы он не спадал! Вот этого и нельзя было сделать. Возможно ли сшить картон? Тут и заканчивалась эта, по существу, игра в вооружение.
Я до галлюцинации запомнил один из моментов, когда я занят этой игрой. Сумерки в столовой - в той столовой на Греческой, выходящей в стену, в окно Орловых! - и я держу голубеющий в сумерках картон. Боже мой, вот сейчас я протяну руку, картон опять окажется в моей руке - и мгновение повторится!
У входа в погреб, куда еще достигало солнце, работал столяр. Очень важно, что именно солнце - в нем золотились стружки. Как крепок всегда союз между ними и солнцем! Как оно любовно относится к стружке! Иногда, когда не смотришь на них, а увлечен разговором, вдруг покажется, что прямо-таки нимфа появилась возле верстака!
Я не помню, над чем трудился столяр. Важно, что вдруг завязывалась между нами дружба. Я был мальчик - не выше верстака, и столяр казался мне старым. По всей вероятности, это был солдат японской войны. Все еще жило ее отголосками. Был он с усами, с крестом, видным в щель рубахи, русский, в синей в белую горошину рубахе. Меня восхищало то обстоятельство, что он рисует по доске, восхищал толстый его карандаш, который он брал в рот, слюнил. Взметывался то и дело также аршин, тоже желтый, как спички, как солдат, как солнце...
Столяр, работавший в подвале, смастерил мне нечто вроде модели солдатской винтовки - вернее, ее профиль, вырезанный из белой, чуть желтоватой сосновой доски. Трудно мне описать сейчас то восхищение, которое охватило меня, когда я впервые взял эту штуку в руки - все имелось: и приклад, хорошо приходившийся мне под щеку, и длинная ложа, и выступающий кусок ствола над ложей, и мушка, и некий намек на затвор с курком... Правда, все это было никак не мощно синевато-черное, как у настоящей винтовки, а наоборот, бледно и даже со следами линий, проведенных густым столярным карандашом, - тем не менее у меня было ощущение настоящего обладания именно винтовкой.
Я не помню, каковы были подступы к тому, что разыгралось в следующую минуту, но тут же, едва я успел чуть не в первый раз прицелиться еще там в подвале, на пороге подвала появился подросток, незнакомый мне, лица которого я даже не успел увидеть, и, взяв у меня из рук подарок столяра, ушел вместе с ним - так, как будто это вообще была его вещь, даже не оглянувшись на меня и даже не допуская, как видно, мысли о том, что я могу попытаться протестовать.
Таким образом, я не больше минуты был обладателем вещи, показавшейся мне такой прекрасной. Какой-то удивительный розыгрыш сделала со мной судьба на пороге подвала с лежащим на нем прямоугольником солнечного света.
Я мог в детстве, как это часто случается с детьми, выколоть глаз. И то хорошо, что этого не случилось! Однако помню некий взмах длинной щепки, в результате которого на мгновение все перед моими глазами делается блестящим, и я кричу:- Ну вот, выбил глаз! Выбил!
Особенного гнева по адресу того, кто, как я предполагаю, выбил мне глаз, я не ощущаю. Не то что особенного гнева, а вообще гнева - да и вообще никакого представления о вине того передо мной у меня нет. Так случилось - и все. Сцена происходит у крана во дворе, через несколько минут я уже в аптеке, и на глазу у меня появляется толстая повязка с мягким, как тесто, содержимым, которое издает одновременно и приятный и противный запах.
Я мальчик, сын родителей, которому чуть не выбили глаз. Я очень сильная фигура детства. Обо мне говорят в парикмахерской, в дворницкой, в греческой мясной лавке, в богатых квартирах и в бедных. Рассказывают вернувшимся со службы отцам, рассказывают только что приехавшим из других городов родственникам.
Мы решили с мальчиком, который чуть не выбил мне глаз, скрыть истинные обстоятельства дела - я просто бежал и наткнулся на что-то. Однако обстоятельства раскрылись, и мама мальчика прижала меня к груди, и, нагнув надо мной желтую шапку волос, ласково смотрела на меня, и говорила, что я хороший мальчик. Между тем я не помню, чтобы мною руководило именно благородное побуждение. Так было проще - не выдать товарища, иначе начались бы морализирования, и это отразилось бы также и на дальнейшей нашей возможности играть во дворе и пользоваться свободой.
Глаз у меня остался целым, и я забываю радоваться каждый день, что у меня два глаза с радужными оболочками, со зрачками, у которых меняется диаметр вплоть до размеров солнца, с ресницами, которые ведут совершенно не зависящую от меня жизнь, иногда, может быть, разговаривают, простираясь над моими глазами, как ветви, и иногда кажутся мне снизу простирающимися, как ветви, надо мной...
Эти записи - все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно. Я стою на чердаке, почти поджигаемом солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют все повторять и повторять. При этом они хохочут. Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится, - да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым - синий дым!
Во дворе пахло канифолью. Этот запах шел из раскрытого сарая, где стояли бочки с неизвестным нам, детям, содержимым. Запах казался не то что приятным, а каким-то серьезным, на основании чего ему прощалось отсутствие именно приятности... Этот запах был желт, как желто было лежавшее на камнях двора и кирпичах стены солнце, - да, да, желтый солнечный запах. По двору ходила томная Витя Койфман с пухлыми губками, с незагорелым приятно-бледным лицом.
Потом мы взбирались по лестнице с риском упасть и видели через пока что всего лишь вырубленные в стене строящегося флигеля двери внутренность уже готовой комнаты, тоже всю в желтизне солнца.
- Упадешь! - крикнула мне снизу Витя Койфман, подняв лицо, которое я видел плоско под собой, как будто сидел на пальме и смотрел на прибежавшую из деревни негритянку. - Смотри, упадешь!
Крича это, она смеялась, как будто, если бы я упал, это было бы смешно. Она смеялась, потому что я был мальчик, а она девочка, и между нами появился стыд. Стыд был другом, а не врагом. Со стыдом было приятно быть вдвоем. Он многое рассказывал, многое делал такое, что, пожалуй, он был наиболее милым другом в те годы.
Когда я был маленьким, во дворы приходили довольно часто китайцы, продававшие шелк. Эти китайцы были еще с косами. Традиционный тех времен наряд китайца, состоящий из синих шаровар, синей же кофты, загнутых черных туфель - и коса! Она была черная, блестящая, твердая, как бы с большой затратой труда вылепленная из смолы. Китаец был красив, прищурен, мужествен, несмотря на косу, - возможно, даже тем более мужествен, что именно с косой: какая-то странная, сказочная мужественность!
Он входил во двор с тюком, который был подвешен к железному аршину, который носильщик держал через плечо. Тюк висел, таким образом, на спине китайца. Привлекала чистая аккуратная внешность тюка - его изящная компактность, его немалый вес, ограниченный хорошей формой...
Однажды на именины мне подарили несколько удивительных подарков. Вероятно, это были не русские игрушки, настолько они отличались от всего того, что заполняло углы моей детской. Об одном из них даже и колебаться не приходится - японская трава, так он назывался, и это было не только название, и в самом деле это была японская трава.
- Стакан теплой воды, - сказал кто-то. - Да, да, пожалуйста...Появился стакан теплой воды с секунду покачивающимся уровнем. Все стояли вокруг стола. Это были еще именины, разгар их - именины мальчика, когда в комнатах стоит голубой дым от выстрелов из пистонного пистолета и запах пороха. Именины мальчика, который не перестает в этот день пребывать посередине какого-то круга вещей, какого-то круга людей.
Стакан теплой воды взяли из женской руки и поставили на стол, увеличив круг вещей именно стаканом воды. Мальчик не выпускает, кроме того, из рук пистолета. Также окружают его еще и крохотные кружочки пистонов...
Господин с черной бородой, которого, возможно, фамилия Макеев, держит в руках коробочку не больше спичечной, так же как из спичечной, выдвигает он из коробочки еще ящичек...
Одним из взрослых, которым хотелось быть больше всего, был Ричард Грос.
Я возвращаюсь домой, и за столом, за которым все сидят и пьют чай, сидит также и один из взрослых, которым мне хотелось бы быть больше всего.
Едва войдя в комнату, я уже вижу его белую матросскую голландку. Из воротника, красиво легшего на оба плеча, растет, как прекрасный стебель, его белая шея.
Мы возвратились втроем, как и ушли, - я, бабушка, сестра; возвратились из парка, куда ушли гулять, как и каждый день; ничего не произошло неприятного... И вместе с тем я стою посреди комнаты, в которой только что очутился, растерянный, с сердцем, наполненным неизвестным мне до тех пор чувством.
Там, в парке, бабушка читала нам сказку о драконе и о принце, добывающем живую и мертвую воду.
Дракон по-польски - смок.
Он преграждал дорогу к живой и мертвой воде, этот смок. О, как хорошо я слышу это звучащее из невероятной дали слово - смок! О, как явственно вижу я себя чуть не оглядывающегося на это летающее вокруг меня слово.
Все в этот день происходило среди падающих листьев - так что среди падающих листьев происходила и наша Одиссея.
Мы то и дело следили то за одним, то за другим проплывавшим поблизости листом. Иногда, когда они проплывали возле лица, я слышал, как они поскрипывают. Тогда я не подумал, что они скрипят, как корабли, это мне теперь приходит в голову. А, впрочем, может быть, я и тогда подумал об этом!
Некоторые, если бы их рассматривать распластанными, были бы похожи на готические соборы.
Они неслись на нас из голубого неба, цепляясь за подоконники и меняя направление.
Бабушка с ее поэтической душой понимала всю красоту происходящего. Как грустно вдруг становилось видеть ее лицо.
Бабушка занята своим делом - может быть, штопает, может быть, шьет, а я перелистываю книгу, до которой мне нет другого дела, кроме того, что я иногда вижу в ней изображения, озадачивающие меня до дрожи. Я не умею читать, тем не менее знаю, что вот покрытые черными знаками пространства - это для чтения; это, я знаю, страницы, буквы, и это читают.
Книгу, которую я перелистывал тогда, я встречал в нашем доме и позже, в годы, когда я уже вырос настолько, чтобы понимать многое и многое. Книга эта - может быть, и вы, читатель, хорошо знаете ее! - это приложение к "Ниве", вышедшее в тот год, когда заканчивалось столетие - нечто вроде сборника исторических материалов, подводящих как раз итоги столетия. Она так и называлась - "Девятнадцатый век". Нетрудно представить себе, сколько замечательных там было изображений, если книга подводила итоги такого века, как девятнадцатый.
Когда я отмечаю свое неумение писать, то я имею в виду составление фразы. Мне очень трудно написать фразу одним, так сказать, махом - в особенности если фраза создается для определения каких-либо отвлеченных понятий. Она вдруг обламывается, и я повисаю, держась, скажем, за какой-либо кусок придаточного предложения...
Я успокаиваю себя тем, что я, мол, поляк и русский язык все же чужой для меня, не родной. Возможно, что причина именно в этом.
Я помню, как отец однажды пожелал проверить мои успехи в чтении по-русски. (Учила меня бабушка, отец выступал в данном случае как верховный судья.)
- Иван! - кричит отец, рассердившись. - Иван!
Я произношу Иван, с ударением на первом слоге, по-польски, в каковом языке не может быть ударения на последнем слоге.
- Иван!
- Иван, - повторяю я.
- Иван! Иван! Иван!
Нет, я все же произношу - Иван. Боясь, как бы в гневе не ударить меня, отец прекращает экзамен, я плачу. Я был еще маленький поляк, и мне было трудно повернуть в себе на новый лад то, что я воспринял с кровью.
Дешевое издание, однотомник. Это большого формата, толстая, с разъезженным переплетом книга. Нетрудно представить себе этот переплет, откинув верхнюю крышку которого видишь решетчатую уличку коленкора...
Книга называлась "Пушкин". Я еще не умею читать, я еще не знаю, что значит - поэт, стихи, сочинение, писатель, дуэль, смерть; это Пушкин - вот все, что я знаю.
Какую первую книгу я прочел? Пожалуй, это была книга на польском языке - "Басне людове" ("Народные сказания"). Я помню, как пахла эта книга, - теперь я сказал бы: затхлостью - как расслоился угол картонного переплета, как лиловели и зеленели мантии седых королей, как повисали на горностаях черные хвосты... Это была история Польши в популярных очерках - о Пясте, о Локотке, о Болеславе Храбром, о Казимире Кривогубом. С тех пор мне и кажется, что изображения могут гудеть. Эти картинки гудели.
У Данте в одной из песен Чистилища рассказывается о высеченном в скале и движущемся барельефе. Он изображает милосердие Тита, этот барельеф. Он не то разговаривает, не то движется, - во всяком случае, это изображение живет. Данте, чтобы убедиться, не обманывает ли его зрение, несколько отступает в сторону, смотрит на барельеф со стороны. Да, движется! Колоссальный барельеф, высеченный в скале. Вот какая фантазия была у Данте: он представил себе движущуюся сцену - величиной в скалу.
Я помню не радость, а недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной "Золотой библиотеки" Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото;
Басни Крылова были хорошо иллюстрированы - графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье - и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем не похожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время, как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. И эта путаница, географическая, дала себя почувствовать... Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассесться, чтобы начать наконец играть. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы кого-нибудь вырвали у него из лап.
Эти ненастоящие львы, медведи и лисицы басен, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм...
В этот магазин вела узкая дверь в довольно толстой стене, что делало момент входа в него особенно, если можно так выразиться, аппетитным. Кажется, даже звякал при открывании дверей колокольчик...Это был книжный магазин, причем в соседней комнате помещалась маленькая библиотека польских книг, которые выдавались на дом.
Книги были польские, хозяин магазина и библиотеки - поляк, его жена - полька, продававшиеся в магазине картинки - польские, все было польское, - даже запах, чем-то похожий на запах костела, возвышавшегося рядом с магазином, здесь, на Екатерининской улице.
За книгами в магазин меня посылала мама. Я проходил маленькую библиотеку и спрашивал у жены хозяина, старушки, есть ли книга, которую хочет получить мама.
- "Прокаженная", - произносил я название романа.
Нет, никогда "Прокаженная" не оказывалась в библиотеке.
Она все была на руках. Когда маме содержание этого романа рассказывала знакомая, у мамы текли слезы...
- Нет, мальчик, "Прокаженной" нет.
Ряды книг громоздились один над другим до потолка - разные книги, новые, истрепанные, некоторые в ярких нерусских обложках. От книг пахло тем запахом, который остался в моих воспоминаниях, как один из приятнейших запахов, какой удалось мне услышать, хотя, по правде говоря, это был запах несколько затхлый, мышиный.
- Есть "На серебряном шаре" Жулавского. Возьми, мама
будет довольна.
И я беру "На серебряном шаре". Взгляд на обложку дает мне понять, что действие романа, очевидно, происходит на луне: большой шар луны, сделанный художником действительно в виде серебряного, восходит над горизонтом, и несколько человек, истомившись среди кустов и бросая длинные тени, смотрят на него с печалью.
Уходя из магазина, я задерживаюсь, чтобы посмотреть на открытки, которые здесь продаются и держатся лицом к покупателю благодаря какому-то проволочному сооружению. Тогда открытки коллекционировались и изготовлялись поэтому с особенным искусством, чистые цвета, хороший картон... Репродукция блестела, оставаясь четкой во всех подробностях. Вот, например, пожар... Большое здание, уже превращающееся в скелет, чернеющий на фоне пламени, снопы искр и маленькие золотые каски пожарных, величиной с булавочную головку, но видимые даже тогда, когда уже у дверей я оглядываюсь на них в последний раз.
- "На серебряном шаре"? - спрашивает мама. - Что это? Наверное, какая-нибудь глупость. Надо было "Прокаженную".
- Ну нет "Прокаженной", - говорю я.
- Какая-нибудь глупость.
Однако голубеющая обложка с серебряной луной и длинными тенями людей привлекает ее. Она спрашивает не столько меня, сколько самое себя:
- Что это?
Открывает, начинает читать.
- Нет, ничего, - говорит она через минуту. - Ничего,
ничего. Изобретатель, который... Ничего.
Оказалось потом, что это грустная книга о группе людей, полетевших на луну и утративших возможность вернуться и все тоскующих о земле...
Однажды мои родители, побывав в театре, вернулись под очень сильным впечатлением спектакля. Они все принимались рассказывать мне, что же именно они видели.- Бьют часы, - говорила мама, - и входит смерть. Ах,
как страшно! Она с косой! Да, да, с косой и...
Дальше я не слушал, так как образ смерти с косой заполнял мое воображение. Пока я освобождался от него, мама уже заканчивала пересказ вспомнившегося ей пассажа. Боковым, так сказать, слухом успевал я услышать, правда, еще какие-то страшные вещи о римском папе, который не хочет следовать за смертью, упирается, и смерть злорадно хохочет и все же тащит его.
- Нет, пойдешь! Упирается! Ха-ха-ха! Пойдешь, пойдешь!
С каким-то особым значением, как нечто тоже страшное,
родители произносили название пьесы.
- Данте Алигьери, - вдруг говорила мама, и по спине у меня пробегали мурашки страха. Тем не менее мне хотелось еще раз услышать, и я переспрашивал:
- Как?
И мама повторяла.
Когда я просил объяснить, что это значит, мама не умела этого сделать. Очевидно, ей и самой не все было ясно. Очевидно, спектакль был некоей инсценировкой по мотивам "Божественной комедии"; очевидно, двигавшаяся по сцене фигура Данте среди ужасов ада не называлась другими действующими лицами по имени... Вот поэтому и трудно было маме, как неподготовленному зрителю, соединить название спектакля с этой фигурой, она не могла сказать мне, что это имя поэта.
Папа, который был библиотекарем Коммерческого собрания, разрешал мне забираться с ногами в кресло - в это удивительное кожаное оливкового цвета кресло, о котором говорила вся Одесса, - и читать, что я захочу и сколько захочу.
А, бывало, он еще заказывал для меня мороженое!
С ногами в кресле, глотая мороженое, я читал Куприна. Я читал "Морскую болезнь". Я не понимал тайн этого рассказа, так как был невинен, но роскошь жизни постигалась мною особенно полно только потому, что я с несомненностью ощущал неизбежность постижения мною в конце концов еще некоей тайны, о которой говорили книги, мороженое, кресло, собственные ноги и горы заката за окном - о, целые горы заката!
Я давно не перечитывал рассказов Конан-Дойла. Где они? Только в истрепанных за годы книгах, которые можно обнаружить лишь случайно, у знакомых.
Я помню, как замирала от восхищения моя сестра даже тогда, когда только пересказывала их содержание.
- Баскервильская собака, - говорила она, глядя мне в глаза своими расширенными, - понимаешь, эта собака...
Я не помню сейчас, что она делала, эта собака. Кажется, одним из ужасов, одной из тайн было то, что у нее из пасти вырывалось светящееся дыхание.
Еще мальчиком, при переходе из одного класса в следующий, я получил в качестве награды книгу, которая называлась "Чудо-богатырь Суворов". Это была толстая, дорогая книга в хорошем, красивом переплете, почти шелковом, с изображением, в котором преобладал кармин, какого-то мчащегося воина с пикой, казака. Она мне очень понравилась, эта книга. По всей вероятности, она была составлена в патриотическом духе, снижающем французов - Массену и Макдональда и других молодых героев и поднимающем жестокого старика Суворова.
Как мне помнится, я мог провести прямую черту как вертикальную, так и горизонтальную по бумаге карандашом или пером - без линейки. Она была всякий раз абсолютно прямой и абсолютно параллельной как нижней стороне листа, так и боковой.
Отец, давший мне переделить какую-то ведомость, сказал:
- Вот тебе линейка. И я, помню, ответил:
- Мне не надо линейки.
Отец рассердился. Тогда я провел линию, подчеркивающую какую-то колонку цифр, и отец, помню, ничего не сказал от удивления, только раскрыл брови.
Это была юность, сила и будущее.
Теперь я даже не могу провести прямой мысли - как явствует из этого отрывка.
Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо. И среди этой прибранности природы - пока что только двора, где я провожу каникулы, - приближается пасха.
Еще несколько дней, и поперек постелей лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновение к которым напоминает ладоням прикосновение к песку; еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты...
Мы католики, так что это не совсем наша пасха; наша пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее у нас есть костел, и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и порядка души, которые свойственны великому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование... У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем.
На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге - можно было сбежать и обрывами.
Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на нас опасные собаки. Тем не менее они вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки - в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.
Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря... Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.
Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи - там круглились их икры, - перепрыгивали друг другу через головы.
Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на песке и сквозь пальцы протискивался золотой песок.
Одежда их - обыкновенные штаны и белые кучки рубашек - лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали в море. Все это было окружено возгласами - теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.
Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами - халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки... Нет, эти юноши и мальчики были, если не любители, то какая-то бедная труппа сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, - сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.
Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство, как писание подряд, как бег строчек одна за другой, становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи, - проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, - я не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать - осколки опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Там, у самого начала, стояла не парадно-белая, скорее, гипсовая, а не мраморная арка - как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известняковыми сводами, ютились лавочки - скорее, просто продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.
Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!
Сначала папа и двоюродный брат Толя и еще какой-то господин играли у Робина на бильярде и пили пиво. Мне было ужасно приятно смотреть, как они пьют пиво. Мне вовсе не хотелось самому выпить, наоборот, пиво всегда говорило мне о касторке, но, видя, как они топят в стаканах усы, потом вздрагивавшие под тяжестью пены, я завидовал им - мне скорее хотелось стать взрослым.
Неся продолговатую картонную коробку, группа быстро шла по гравию. По тому, как они размахивали руками, как быстро переставляли ноги, как говорили разными голосами, чувствовалось, что совесть у них не чиста, что это - жулики.
Впереди ждал их деревянный непокрытый стол, окруженный толпой детей, среди которых стоял и я.
Они подошли к столу, один сел на табуретку и вынул из кармана книжечку с отрывными по пунктиру листками. Другие занялись коробкой. Через несколько мгновений мы увидели куклу, которая, чуть выйдя из раскрытой и поставленной торчком коробки, так и остановилась в позе шагнувшей. Солнце ярко освещало ее. Это была обыкновенная кукла, правда - из дорогих, все же обыкновенная кукла с широко раскрытыми голубыми глазами, с несколько разведенными руками, с льняными локонами. Ее сочленения, слышали мы, повизгивают, ресницы ее лежали бархатными черточками, платье, как кажется мне, из тюля просвечивало на ее розовом теле.
Не знаю, как смотрели на куклу девочки, по всей вероятности, с восхищением, мальчикам она, конечно, была противна, но выиграть ее хотели тем не менее и мальчики: ее можно было и продать и выменять, это было дорогостоящее имущество.
Итак, кукла разыгрывалась. Я никогда не забуду, как поднялся один из жуликов с сине-красным карандашом в руках и объявил условия лотереи. Они заключались в том, что нужно было угадать, как зовут куклу. Кто угадает, тот выиграл, но за право назвать какое-то имя полагалось уплатить пять копеек. Пять копеек - это много. За пять копеек можно было купить большую порцию мороженого в вафлях - кружок, который хватало есть надолго, стакан хлебного квасу стоил, например, две копейки.
Я еще застал ярмарочного характера зрелище. Так, я видел, как кидали мяч в картонную на шарнирах фигуру японского солдата, заставляя ее при попадании не то повалиться вверх тормашками, не то... не помню! Словом, с солдатом происходило нечто незадачливое, вызывающее хохот. Видел я также, как лазили на столб за спрятанными на самой верхушке этой довольно-таки высокой мачты подарками; кажется, там на площадке, которую так трудно было достигнуть, обычно лежали часы. С мачтой был связан и один из потрясавших воображение тогдашней публики номер - прыжок с высоты вниз. Эта мачта, этот шест был высотой этажей в десять. Внизу, куда нацеливался прыжок, устраивалось углубление; в нем была вода... Номер был, безусловно, опасный, хотя бы потому, что техника прыжков в воду в те времена была еще развита недостаточно. Впрочем, какие там прыжки в воду! Акробат прыгал не больше как в мелкий кювет. О, он прощался с женой, этот смельчак! Да, да, именно так: прощался с женой! В центре огромной толпы, окружавшей место действия, стояли две фигурки - одна в цирковом плаще, другая в порыжелых одеждах мадонны - и, обняв друг друга, склоняли на мгновение головы один на плечо другого... Кажется, играл небольшой военный оркестр. Помню колоссальность толпы, ее гудение; она была раздражена ожиданием, да и опасалась, не отменят ли прыжка, не заставят ли улететь уже носившуюся в сером полном майского дождя небе смерть. Несколько развлекал толпу вымпел, бежавший в этом же сером небе вымпел, укрепленный на мачте...
- Прощается! - неслось по толпе... - С женой прощается!
Задние не видели этого, но теперь уж было ясно, что не обманут - прыжок состоится, смерть не улетит восвояси. Вот она, вот! С косой! Верно, верно, блеснула коса!
Блеснула, правда, молния, а не коса, тем не менее акробат готов умереть.
Сперва я опишу тир. Как стреляли два господина по бутылкам. Потом по шарику. Потом пошли пить пиво. И как мне хотелось быть взрослым...
Почему хотелось быть взрослым? Не нравилось детство? Почему оно не нравилось?
Наиболее часто занимались стрельбой именно по бутылкам. В результате некоего приспособления бутылки продвигались по заднему плану вдоль стены - как бы вереницей одна за другой, чем-то напоминая живые существа несколько угрожающего вида. Стреляли, таким образом, по движущимся бутылкам, что еще больше придавало им жизнь. Иногда приятно было думать, что их наказывают, эти живые, чем-то недовольные существа.
Все вместе называлось словом "тир". Он находился налево от входа в парк, почти вдвигался в голубое пространство неба и моря. В тире было до половины светло, только до половины, куда достигал падавший в открытые во всю ширь двери солнечный свет. Большинство фигур и бутылки поблескивали в летнем сумраке. Стреляли из тонких с черными гранеными стволами монтекристо. Выстрел щелкал. Однако пахло порохом - сладко и чуть-чуть железно...
В детстве, когда этого как раз так хотелось, мне ни разу не пришлось выстрелить. Я только смотрел, как это делали другие, мог смотреть часами. Сперва шуршал под ногами приближавшихся гравий, потом два господина, перебрасываясь веселыми репликами, останавливались на пороге. Это был не порог, собственно, - скорее грань, вот именно грань между жарой и прохладой. Два господина - чаще всего это были именно два господина - останавливались. - Давай?
- Ну, давай.
Они бросали папиросы, падавшие в грядку на самом краю
голубизны, и не успевали протянуть руку, как в ней уже оказывались монтекристо - уже заряженные монтекристо, стройные, как олений рог.
- Ну, ну? - говорил один господин.
- Ну, ну? - говорил другой.
Жевахова гора была видна с бульвара в виде не слишком далекой, но все же синеватой гряды. Все же это была даль - не столько, впрочем, географическая, столько житейская, бытовая - с чего вдруг окажешься на этой горе!
Туда, в сторону горы, шел поезд, ведомый маленьким паровозом, который называли паровиком. Маленький, бойкий свистящий паровозик, пять-шесть зеленых вагонов...
Какая чудесная вещь - свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются, как им угодно, - и никак мы не можем заставить себя вспоминать именно это, а не другое. Ха, ха, разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но - дудки - мы ее никогда не поймем.
Так, вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте "Увлечение". Мы - это знаменитый одесский врач-сифилидолог Егор Степанович Главче, его приемный сын Андронька и я, маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой, - длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что оно сворачивается. Воспоминания не последует - только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром, как, казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней... Нет, и это воспоминание, как видно, не получится!
Как тихонько под самыми пальцами, которые вы опускали в воду, рокотало и бежало море - рокотало и бежало, темное, бежало навстречу нам низко-низко под бортом яхты, на расстоянии локтя - еще одного локтя, потому что вы сидели облокотившись...
Доктор Главче повел меня и Андроньку вечером на выставку. Он был одет в черный блестящий, так называемый альпа-говый пиджак, белый жилет, серые в полоску штаны, и на голове у него была из твердой соломы невысокая шляпа - так называемое канотье. По тем временам это был щегольской и вполне приличный наряд. Доктор Главче был низко под машинку острижен, у него была черная борода - недлинная и небольшая, черный опрокинутый книзу острием треугольник. Он говорил кругло и четко. Был он также в пенсне, которое носили тогда близорукие в отличие от теперешних очков.
Из кармана он вынимал чистый белый платок, которым иногда, сняв канотье, вытирал макушку, которая оттого, что волосы были низко острижены, теряла черноту и становилась серой. Он был плотен, даже кругл, белый воротничок на нем ярко блестел.
Летний вечер был светел и пахнул цветами, которые стали теперь в сумраке особенно заметными, - белые лилии, белые розы, невесомые среди сумерек. Вдали в море через равные промежутки времени зажигался свет маяка - то красный, то зеленый. По всей вероятности, это ровное чередование происходило от вращения фонаря с разными стеклами, но, не зная этого или не думая об этом, можно было представить себе, что это некто, стоящий к вам спиной, поглядывает на вас из-за спины то красным, то изумрудным глазом.
Мы отправились на выставку пешком. Это было недалеко от центра города, на территории парка. Мы шли так, что в середине шел доктор Главче, а по бокам - я и Андронька. Доктор Главче был в хорошем настроении, шутил, выделывал разные щелчки пальцами, играл тростью. Все сулило нам вечер чудес.
Тот мир был совсем иной. Маленькое, все в клумбах, плоскогорье парка отделялось от спуска в порт - да просто от самого порта с пароходами, морем, волнорезом, маяком - старой порыжевшей каменной стеной с арками в ней. Из стены и многолетних наслоений на ее камнях росли нежно дрожавшие под ветром цветы. Шорох гравия никогда не прекращался здесь под стеной. Сюда подходили смотревшие на море и отходили, здесь играли дети...
В Одессе мы катались по морю на плоскодонках. Это большие, тяжелые лодки без киля, а именно с плоским дном - нечто вроде воза, снятого с колес и брошенного на волны. Они были грубо окрашены в красное и синее и приводились в движение благодаря веслам, огромным, тяжелым, привязанным к уключине с такой мощью, как привязывают, по крайней мере, быков. На дне лодки всегда было много воды, и в этой луже плавали тряпки, красные остатки креветок, бутылка. Плоскодонка скользила, неслась по волнам. Что-то было из греческих мифов во внешнем виде этих лодок. Помню до сих пор, как будто видел вчера, похожие на груши коричневые икры бегущих за лодкой, чтобы вскочить в нее, рыбаков.
Лодка называлась "тузик". Это скорлупка. Однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри - серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа - ближе к корме, иноходь.
Обычно он ожидал нас в порту недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной, веревка то и дело соприкасалась с водой; разъединяясь, они, казалось, целуются. Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее. Она давала крен - в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми.
Да, ведь имелся еще руль! От руля к рулевому шли веревочки - в каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями, из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю.
Обычно мы плавали в порту. Порт этот - громадина, это море - особенно для "тузика" и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере, стеною для нас. Да, да, гигантская стена, порыжелая снизу, все более чистая кверху и на самом верху уже элегантно чистая.
Идя по Французскому бульвару, по левой его стороне, по направлению от 3-й гимназии, вдруг видели вы по левую руку переулок... В нем были и неуютные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, вместе с тем был этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в этот переулок... Но всегда я спешил куда-то, всегда спешил! Так никогда и не свернул я в этот переулок. Я думаю, что и до сих пор выглядит он так же. Так же провисает забор и так же видно вдали поверх ромашек и широких лопухов море.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОДЕССА
И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту.
С чего он начинает? Не помню. Кажется, с того, как показывают волшебный фонарь и как он видит движение светящегося сквозного разноцветного изображения на стене, по двери, по ручке двери - как тело рыцаря Голо совпадает с ручкой двери и т. п. Или с прогулки, когда они, дети, гуляют с отцом и уходят, как кажется им, на очень далекое расстояние от дома... Вдруг они оказываются в каком-то совершенно незнакомом им месте, и вдруг отец, как визитную карточку из кармана (или как фокусник карту?), вынимает из темноты калитку их же дома.
С чего бы начал я? Все меня возвращает память к тому дню ранней осени, когда я с бабушкой пришел в гимназию держать экзамен в приготовительный класс. Может быть, и начать с этого?
Все это, честно говоря, я пишу все же как литератор, а не как человек, который выдает, зовет что-то обратно. Что? Жизнь? Тот день, когда поймали на Дерибасовской вора? Я побежал на крики во двор, и там, почти распяв, держали молодого человека, очень бледного, красивого, одетого, как все. С тех пор я думаю, что воры красивые, что они безумны... Это произошло на том квартале Дерибасовской, который уже близок к краю обрыва над портом, где улица спускается вниз, но еще очень чистая, нарядная, красиво мощенная нерусским камнем, где высокие арки подъездов больших богатых домов, где дом компании Пате с зажигающимся по вечерам и гаснущим - зажигающимся и гаснущим - петухом.
Мне кажется, что я поглупел. Что же, возможно - склероз. Однако творческие мысли о будущей пьесе в порядке. Поглупение в том, что уже давно не приходят мне в голову мысли необычного, высшего порядка. Да и были ли они когда-либо мыслями именно такого порядка? Если представить себе поток мыслей Гегеля или Фрейда, то мое мышление - как разговор в метро по поводу того, "как мне доехать туда-то или туда-то", не выше.
Надо написать повесть о душе, которая брошена в мир, в ужас и хочет оптимизма, о самом себе - начиная опять-таки с первого прихода в гимназию.
Русскому языку и арифметике меня учила бабушка. Вспоминая об этом сейчас, я не могу понять, почему обстоятельства сложились так, что в семье, где были мать и отец, занятия со мной в связи с предполагавшимся моим поступлением в приготовительный класс гимназии были поручены именно бабушке, старой женщине, да еще польке, и не совсем грамотной в русской речи, путавшей русские ударения.
Я переписывал из книги, писал диктовку, учился четырем правилам арифметики. Я не помню, как проходили уроки, сохранились только воспоминания о деталях - о том, что я сижу за обеденным столом, лицом к окну и балконной двери, о виске бабушки с сухими, уходящими за ухо волосами...
Держать вступительный экзамен в приготовительный класс одесской Ришельевской гимназии привела меня бабушка. Помню, как мы стояли во дворе под деревьями, с которых падали листья. Они плавали в воздухе, эти желто-красные осенние листья, казалось, поскрипывали, проплывая мимо нас...
Кроме меня еще многих мальчиков привели держать экзамен. Они распределились на группы, кто тоже, как и мы с бабушкой, под деревьями, стоя, почти прислонясь к стволам, кто на скамейках и вокруг них, кто... обязательно эти три примера! Хорошо, пусть три - кто прогуливаясь по двору со старшими - взрослыми братьями или отцами, - маленькие, умные мальчики в очках, полных сверкающих микроотражений осени, сада, города.
Бабушка привела не литератора, а тоже маленького мальчика. Он не видел всего того, что вспоминает сейчас литератор. Может быть, этого всего и не было! Нет, было все же! Безусловно, была осень и падали листья... Безусловно, проплывая мимо меня, они поскрипывали боками, как корабли. И, как корабли, они описывали, оплывая меня, круг - два-три витка спирали и тихо садились на асфальт, под обочину, где их было уже множество, целый погибший флот. Иногда ветерок поворачивал некоторые из них носом в другую сторону... Нет, все же это видел мальчик - литератор только вспоминает теперь и привлекает из других воспоминаний, а видел именно тот самый мальчик, которого привела бабушка.
Значит, она все же привела литератора, поэта, хоть еще и совсем маленького. И в самом деле, где же грань? Где же он начал видеть? Где же он был просто мальчиком, а потом вдруг стал поэтом? И в то утро - о, безусловно! - он и смотрел и видел.
Сейчас мне не совсем понятно, почему собственно потребовалось вмешательство бабушки: ведь я был достаточно взрослым мальчиком - мало того, еще и мальчиком со всеми качествами, присущими возрасту: как раз, например, страстью к бродяжничеству! По всей вероятности, бабушка была послана, так сказать, для отчета. Как бы там ни было, этот день, который навсегда, среди немногих, остался в моей памяти живым и сияющим, соединен именно с бабушкой - да просто принадлежит ей, - ее день, день ее памяти.
Как мы шли в гимназию, не помню. Вероятно, сперва по Греческой (выйдя из дому - мы жили на Греческой, угол Польской), потом свернули на Ришельевскую, с Ришельевской в том месте, где командует здание театра, на Дерибасовскую и, пройдя всю Дерибасовскую, пошли затем направо, по Садовой, где командует здание почты и где на самом конце улицы и стоит гимназия. Другого пути, пожалуй, выбрать и нельзя было. Следовало бы мне, конечно, сказать, если уж я упоминал, что над какими улицами командовало, что на Дерибасов-ской командовали часы-великаны у магазина Баржанского. Они висели, если можно так выразиться, поперек вашего хода и низко над вами, так что, поднимая голову, вы довольно ощутительно видели, как большая стрелка совершала прямо-таки прыжок в следующую минуту.
Итак, мы подошли к зданию гимназии - двухэтажное желтое здание, старинное, с небольшими окнами в толстых стенах, построенное, может быть, еще при Павле, когда Одесса была еще совсем молодым городом. Да, как раз угол - оно стоит на углу, угол Садовой и Торговой. Здесь, в эту минуту, я, кажется, нахожусь впервые в жизни.
Каким-то путем мы узнаем, что экзаменующиеся собираются во дворе.
- Вам туда надо, во двор, - сказал швейцар, - если на
экзамен, то во двор.
И он держал руку в указующем направлении - но указывал сквозь стены: для себя понятно, а для меня с бабушкой совсем непостигаемо. Рука в рукаве, даже обвисшем от тяжелых позументов, показалась мне чуть не рукой Петра Великого.
- Вот туда, - повторил швейцар, указывая на далекие в
конце коридора окна, в которых двигались деревья.
Мы сделали вид, что поняли, и опять вышли на улицу. Если б не волнение, то в конце концов нетрудно было бы сообразить, куда именно направил нас швейцар даже сквозь стены, но мы мыкались по улице, сердясь друг на друга. Дело наладилось, когда, увидев тоже, как видно, какую-то бабушку с внуком, шедших довольно уверенно в конец улицы, мы пошли за ними.
- Вы тоже на экзамен? - спросила бабушка.
Та, идущая впереди бабушка, не услышала, но внук оглянулся, и ясно было, что тоже ка экзамен: лицо его было испуганное, с застывшей улыбкой.
- Что? - спросил мальчик.
- Ты на экзамен? - спросила бабушка.
- Да-да, на экзамен, - ответила та бабушка, маленькая, в гофрированном белом воротничке - пожалуй, даже не бабушка, а тетя. Она не пригласила нас идти вместе с ними, а наоборот, быстро взяв мальчика за руку, пошла еще обособленней, - и все четверо мы шли как бы врассыпную.
Мы открываем калитку в широких деревянных воротах, переступаем через низ этих ворот и оказываемся в некоем коридоре, хоть и под открытым небом, но все же коридоре между двумя какими-то стенами. Коридор асфальтовый и разворачивается шагах в двадцати от оставленной нами позади калитки в целый асфальтовый двор уже не под узкой полосой голубого неба, как коридор, а под широким, далеко уходящим над деревьями небом. Вот мы уже вошли во двор, безусловно имевший форму квадрата; асфальтированный, чуть синеватый от изношенности асфальта двор... Он по квадрату же был обсажен акациями, с которых, как и со всех деревьев в этот день, падали листья.
Деревья и под ними мальчики. Мальчики, бабушки, матери, отцы, старшие братья. Деревья роняют листья, листья накапливаются под ними, мальчики стоят под деревьями на листьях, прислонившись к наклонным, далеко улетающим ввысь стволам.
Наконец позвали и меня. Последний взгляд на бабушку, оставшуюся под деревом, и я уже на железной лестнице; раз-два-три, грохочущая железом лестница кончается, дверь, коридор... Еще с несколькими мальчиками я оказываюсь в не такой уж большой комнате; скорее, наоборот, это небольшая комната и даже узкая - правда, с тремя окнами. Так это класс? Да-да, это класс! За окнами, я вижу, улица, противоположные дома, вершины деревьев такие же желтые, как и то, под которым осталась бабушка. В классе светло, четырехугольники света кое-где лежат в целости, кое-где они поломались, упав на углы, на парты. Да, я ведь впервые вижу парты... Так это парты? Парты! Прежде я только слышал о них от сестры, раньше меня поступившей в гимназию. И за партами сидят мальчики!
Довольно трудно мне разобраться в том, что происходит, я все же волнуюсь. Ого, еще как волнуюсь? Происходит экзамен. Перед доской, о которой мне тоже рассказывала сестра, - да-да, классная доска! Так это она? Она! - перед
классной доской почти во всю стену - черной, но в меловой пыли, даже в окутывающем ее меловом тумане стоят двое - старый и маленький. Старый - это учитель, он экзаменует; маленький - это экзаменующийся. Старый, в форме - форменной тужурке, тоже в меловой пыли и с куском мела в руке, маленький - в матросской куртке.
Ничто не изменит моего убеждения в том, что тогда, когда, стоя во время экзамена в приготовительный класс гимназии и почти роняя мел из пальцев, уже готов был согласиться со вставшей передо мной во всем своем ужасе судьбой, что я экзамена не выдержал, так как решить задачи не могу, - что тогда совершилось чудо - я ведь задачу решил!
Когда я начал учиться в гимназии, мне было лет одиннадцать. Всего одиннадцать лет отделяло меня от моего несуществования в мире, и уже я был в форменной фуражке, в тужурке, в кожаном поясе с металлической бляхой посередине живота. Уже я стоял перед географической картой двух полушарий, смотрел на лиловые многоугольники колоний, на раковину Мадагаскара, читал и понимал слово "Великобритания". Уже я писал готические немецкие буквы, уже думал о героях истории, которые были до меня - до моих одиннадцати лет. Как я воспринимал то обстоятельство, что я живу еще немного, начал жить еще очень недавно? Я этого обстоятельства вообще не воспринимал. Скорее, другие мне говорили, что я маленький. Сам я, повторяю, этого не чувствовал, об этом не размышлял. Я не думал о том, что можно быть каким-нибудь другим, кроме того, кем я был. Если мне хотелось быть взрослым, то я не думал о физических изменениях, а только о тех возможностях, которые даны взрослому, - не готовить уроки, есть сколько хочешь пирожных. Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно - я был просто человек.
Я не любил, когда меня заставляли надеть башлык. Это меня выводило в ту колею, где я начинал чувствовать себя более маленьким, чем я был, более слабым, болезненным. Ворс башлыка я до сих пор чувствую на щеках и на губах. От него, от этого грубого ворса, приходилось почти отплевываться, во всяком случае, отдувать его от щек в этот морозный ветреный день.
Кажется, были башлыки еще и с позументами.
Болезни все время вились возле нас, гимназистов. Я помню, как я и какой-то из моих одноклассников сидим высоко на железной ступеньке лестницы, ведущей к нашему коридору, дверь в который еще закрыта, поскольку мы мальчики старательные и пришли раньше других, и перечисляем, кто из товарищей болен корью. Темно в этом закутке почти еще по-ночному и страшновато: может быть, она сидит рядом с нами, корь, в платке и со скулами, выглядывающими из овала платка, как два камня.
Я не могу восстановить в памяти, когда именно я болел корью - в гимназические годы или раньше. Тогда берегли во время этой болезни глаза заболевшего, закрывали днем ставни. Я лежал в нашей большой столовой в квартире на Греческой улице - неуютной, невыгодно обширной, выходящей окнами в стену комнаты. Лежал на кровати, поставленной под закрытой двустворчатой дверью, за которой, я знаю, передняя и парадная дверь. Лечит меня доктор Гартенштейн, высокий, в сером, с хорошей, седоватой, но молодой бородой. Я болел нетяжело. Мне вдруг начинает казаться, что я заснул и сплю и вижу сон - и до сих пор я думаю, что с тех пор я не проснулся и эти многие годы, которые прошли с тех пор, все это мой сон.
Чуть подлиннее. Чуть подлиннее.
Кроме обыкновенной формы, еще надевались так называемые мундиры. Синие узкие в девять пуговиц мундирчики, у которых был стоячий воротник с серебряными галунами. Мундиры были необязательны, их имели только более или менее богатые мальчики. У меня такого мундира не было.
Безусловно, эти сумерки относились уже к весне... Хоть и ранняя, но уже весна, уже плыли в небе гигантские льдины облаков, уже светились там голубые проруби.
Я шел по Ришельевской улице, потом свернул на Успенскую, потом спустился по Успенской. Я - маленькая фигурка, совсем маленькая: гимназист, по всей вероятности, первого класса. Я иду к Саулу Гершковичу. По фамилии можно подумать, что это сын бедных родителей. Нет, это сын буржуа.
Вот передо мной анфилада его квартиры, белые двери, белые широкие окна с тем же ледоходом облаков. Сумерки, но ламп еще не зажигают, и это чудесный час - особенно в богатой квартире, где кресла в чехлах, где конь рояля - да-да, черный блестящий конь! - где золотой блеск на обоях.
Все, конечно, встречают меня ламентациями по поводу того, что я бледный.
Вероятно, я был в те времена очень жалким на вид - болезненный, бледный, маленький. Но что-то привлекало ко мне людей. Я ведь еще был и бедный. И все же приглядывались ко мне и звали в богатые дома.
Орловы жили хоть и в богатом, но все же полуподвале. Во всяком случае, к любому из их окон можно было подойти непосредственно по камням двора и, остановившись, отразиться, если оно было закрыто, во весь рост. Летом, стоя перед открытым окном, я видел внутренность комнаты несколько сверху, а для находившегося там, за окном, был довольно внушительным силуэтом человека, которого видят снизу.
Они были действительно богатые люди, и почему жили в полуподвале - мне непонятно. Впрочем, как я уже сказал, полуподвал этот не был жилищем для бедняков. Наоборот, это была многокомнатная квартира, светлая, выходившая на две стороны - во двор и на улицу, и никак не дававшая жившим в ней почувствовать, что она полуподвал.
Жили они в этой, все же не совсем полноценной квартире, по всей вероятности, потому, что пожелали по каким-то причинам жить именно в этом доме и пока что в ожидании лучшей квартиры согласились на полуподвал.
Совершенно верно, они ведь, когда я вспоминаю о них, живут и в другой квартире - на втором этаже, с длинным узким балконом, с рядом светлых во весь фасад окон, которые мне ничего не стоит увидеть - только закрыть глаза!
Однако пока что Орловы - это полуподвал, это окна вровень двору, это богатая жизнь, которую все же я могу рассматривать несколько сверху.
Уже мне не хочется вспоминать детство. Может быть, только костел на Екатерининской улице, небольшое готическое здание с архитектурной розой над порталом, с непрочными ступенями, по которым ступали мои сандалии.
Я думал, что после окончания гимназии я куплю велосипед и совершу на нем поездку по Европе. Первая война еще не начиналась, еще все было очень старинно, солдаты в черных мундирах с красными погонами, зверинец на Куликовом поле с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. Еще бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона и ты думал, не уродлив ли ты. Еще отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом, шел тебе навстречу и отвечал тебе на поклон, отчего ты бежал во весь дух, сам не зная куда, обезумевший от счастья. Еще продавали из-за зеленого прилавка квас по две копейки за стакан, и ты возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча.
Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в свое время бракосочеталась с французским королем дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было. Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами. Я еще люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звезды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и еще многое и многое.
Какое емкое явление - век! В нем успевают вместиться много поколений, событий, изменений лица культуры.
Лев Толстой, видевший зарю Некрасова, Тургенева, Достоевского, прожив восемьдесят два года, уже жил в эпоху, когда появились кинематограф и авиация. Трудно представить себе его переживание, когда он смотрел, скажем, на какого-нибудь авиатора - он, видевший рыжее, такое музейное для нас, страшноватое сукно севастопольских матросских шинелей. Ведь он был современником русско-японской войны! Это значит, что он успел узнать и о прожекторах, и о митральезах, и о минах Уайтхеда - он, в Севастополе решавший для себя вопрос, кланяться перед ядрами или нет.
Я помню день смерти Толстого. Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую пыль, стоящую в воздухе от того, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре:
- Умер Толстой!
Я выбегаю, и уже везде:
- Умер Толстой! Умер Толстой!
И в мою жизнь уже много вместилось! Например, день смерти Толстого и, например, тот день, вчера, когда я увидел девушку, читавшую "Анну Каренину" на эскалаторе метро - привыкшую к технике, скользящую, не глядя, рукой по бегущему поручню, не боящуюся оступиться при переходе с эскалатора на твердую почву.
Могу сказать, что великая техника возникла на моих глазах.
Именно так: ее еще не было в мире, когда я был мальчиком... Были окна, за которыми не чернели провода, не горели электрические фонари, окна совсем не похожие на те, в какие мы смотрим теперь: за ними была видна булыжная мостовая, проезжал извозчик, шел чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой, силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката, и если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка. В дождь из нее широким веером хлестала вода, и звезды цинка, став мокрыми, были очень красивыми. Правда, цинк был новинкой, о нем много говорили, на водосточные трубы из цинка смотрели, останавливаясь, поднимая голову, устремляясь взглядом ввысь, вдоль трубы, сильно выделявшейся среди камня стены светлым серебряным цветом.
- Цинк, - произносилось значительно.
Чувствовалось приближение чего-то.
Появилось электрическое освещение.
Я помню, как в нашу квартиру сходился народ, чтобы посмотреть, как горит электрическая лампочка, - стояла целая толпа с поднятыми головами и полуоткрытыми ртами.
Это было чудо.
Когда я хочу отчетливо почувствовать, что произошло с техникой, я говорю - останавливаю свое внимание на том обстоятельстве, что я, родившийся через семьдесят девять лет после смерти Наполеона - то есть между этим событием и моим рождением стоит всего один лишь старик, - живу в современности, где один из создателей кибернетики говорит, что принципиально возможна передача человека по телеграфу.
Я, например, с отчетливостью помню появление первых электрических лампочек.
Это были не такого типа лампы, какие мы видим теперь - разом зажигающиеся в наивысшей силе света, а медленно, постепенно достигающие той силы свечения, которая была им положена. Как будто так... Возможно, я путаюсь в воспоминаниях, и на память мне приходит не домашняя лампа, а какая-то иная, увиденная мною в ту пору; пожалуй, домашние лампы уже в самую раннюю эпоху своего появления были так называемыми экономическими - то есть загорающимися сразу.
Во всяком случае, я помню толпы соседей, приходивших к нам из других квартир смотреть, как горит электрическая лампа.
Она висела над столом в столовой. Никакого абажура не было, лампа была ввинчена в патрон посреди белого диска, который служил отражателем, усилителем света. Надо сказать, весь прибор был сделан неплохо, с индустриальным щегольством. При помощи не менее изящно сделанного блока и хорошего зеленого, круто сплетенного шнура лампу, взяв за диск, можно было поднять и опустить. Свет, конечно, светил голо, резко, как теперь в какой-нибудь проходной будке.
Но это был новый, невиданный свет! Это было то, что называли тогда малознакомым, удивительным, малопонятным словом - электричество!
Звук шнура, бегущего по блоку, легко мне до сих пор восстановить в ухе. До сих пор легко мне увидеть с десяток лиц, поднятых кверху, и взгляды, устремленные к светящемуся центру, к испускающей свет стеклянной груше под потолком.
И строжайший запрет мне: не поворачивать то и дело выключатель!
Он, как и теперь, черный, среди обоев. Но дети сейчас совершенно равнодушны к нему, и нельзя себе представить ребенка, которому захочется то и дело поворачивать выключатель.
Я помню себя стоящим в толпе на Греческой улице в Одессе и ожидающим, как и вся толпа, появления перед нами вагона трамвая, только сегодня впервые начавшего у нас функционировать. Он появится из-за угла Канатной, но этого угла с позиции, на которой мы стоим, не видно, он слишком отдален, да еще и скрыт в перспективе некоторой горбатостью Строгановского моста - и таким образом мы увидим вагон только тогда, когда он будет уже на середине моста.
Все убеждены, что движение трамвайного вагона необыкновенно быстро, молниеносно, что даже и не приходится думать о том, что можно успеть перебежать улицу.
Трамвай показался на мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди - шедший довольно скоро, но далеко не так, как мы себе представляли. Под наши крики он прошел мимо нас с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был и какой-то высокопоставленный священник, кропивший перед собой водой, также градоначальник Толмачев в очках и с рыжеватыми усами. За управлением стоял господин в котелке, и все произносили его имя:
- Легоде.
Это был директор бельгийской компании, соорудившей эту первую трамвайную линию в Одессе.
Я не помню, как я освоился с тем, что вот вижу перед собой трамвай, вот езжу на нем... Освоение это не заняло много времени. Вскоре после первой с ним встречи я уже, совсем не переживая этого, ездил на нем, платя, как и все, пять копеек, стоя на задней площадке и ловчась схватить мчащуюся навстречу ветку.
Лихорадочное трепетание мысли, вот-вот готовой открыть тайну полета машины тяжелее воздуха, я видел отраженной в фотографиях, в турниках, слышал в разговорах... она никак не открывалась, эта тайна. Машины не поднимались в воздух, вызывая насмешки репортеров. Я искренне сочувствовал этим осмеянным людям - первым конструкторам авиации, поджарым, худым, в кепках с пуговицей на макушке, в свитерах и с торчащими из карманов кожаных штанов гаечными ключами, которые тогда назывались французскими.
Вдруг разнеслось известие, что машина, сооруженная некими братьями Райт, поднялась-таки в воздух и пролетела порядочное расстояние. Братья были американцы, одного звали Вильбур, другого - Орвиль. Они демонстрировали свои полеты в Париже, и я помню фотографию, на которой их машина огибала Эйфелеву башню. Она не только летала, она могла огибать: это была управляемая машина.
Больше всего привлекал мое внимание павильон авиации. Привлекал внимание! Околдовывал меня! Лишал дара речи! Не отпускал меня!
Что такое павильон? Это колоссальная постройка, относительно легкая, поскольку она - многоэтажная пустота, поскольку это один зал...
Я вошел в огромный сарай - поистине огромный, в котором свободно носились ласточки... Огромный, наполненный золотистым летним полумраком сарай, где сперва глазам моим пришлось осваиваться с темнотой и где они вдруг мгновенно и резко увидели несколько необычного вида предметов с колесами и с крыльями. Это были так называемые аэропланы, привезенные из Европы на выставку в Одессу, в этот сарай, или павильон, стоявший на отшибе территории выставки у заднего ее выхода, на пустыре среди нескошенной травы бурьяна и желтой куриной слепоты.
Они стояли так, что когда я вошел, то каждый из них был обращен ко мне головой, лбом-мотором, пересеченным пропеллером.
Было объявлено, что Эрнест Витолло спрыгнет на парашюте - разумеется, из воздушного шара, так как о другом способе подняться на воздух еще не было и речи.
Было объявлено, говорю я. Но что это было - афиша или объявление в газете? Не помню... Не было, конечно, тогда и радио. О, и телевизора, конечно! Словом, повторяли: Витолло, Витолло! Как спрыгнет? А что это? Как это спрыгнет? Витолло!
Воздушный шар засветился в небе вдруг днем, ярким голубым днем посередине неба.
Между прочим, парашют продолжал быть новинкой долгое время, и я помню, что уже когда я был писателем, уже в советское время, уже во время новой техники, я был на аэродроме, пойдя туда тоже во имя того, чтобы дивиться парашюту, и видел, как перед людьми проходил некий, тоже приезжий парашютист, немец, показывавший парашют на своей спине, как в цирке показывают какую-нибудь коробку фокусника, чтобы убедить публику, что ее не обманывают...
Мы были уверены с Андронькой, что нам удастся спрыгнуть на некоем парашюте, который мы сами соорудим. Теперь я уже не могу рассказать, какую, собственно, конструкцию мы имели в виду. Представлялось очень простым сделать нечто вроде большого зонта - твердого круга со стропами из простых веревок, сходящимися к одной точке, чуть ли не просто к узлу, который, прыгая, мы будем держать в руке.
Мы стояли на площадке третьего этажа железной лестницы, идущей зигзагами по стене дома и висящей над двором. Этот двор, частью в асфальте, частью в булыжниках, частью просто земляной, тут же под нами - - всего лишь с третьего этажа мы смотрим на него! И вместе с тем, мы с полной серьезностью рассуждаем о прыжке на него с парашютом, да просто с зонтом.
Мы не произвели этого опыта не потому, что раздумали после зрелого размышления, а по какой-то другой, по всей вероятности, материальной причине. Головы тогда сильно были заняты летанием, и эта мечта - летать - была очень властной, одолевающей. Я видел тогда прыжок с парашютом, совершенный приезжим воздухоплавателем Эрнестом Витолло, разъезжавшим по миру именно с демонстрацией этих, казавшихся феноменальными, прыжков. Он спрыгнул с воздушного шара, поднявшегося довольно высоко, до сходства с желтым, сияющим пятнышком. Как он отделился от шара, никто не успел разглядеть - я стоял с толпой на Пушкинской улице, - и только вдруг, ахнув всем городом, мы увидели ни с чем не сравнимое появление из ничего, из тишины над нашими головами, в синем небе маленькой, тоже желтой и сияющей раковины, медленно и косо плывшей в сторону Биржи... Так этот первый прыгун с парашютом прыгал прямо над городом, не страшась всяких возможных опасностей.
Затем - Макс Линдер. Трудно вам передать, как был знаменит Макс Линдер! Духи, папиросы, галстуки, ботики, покрой, прически, манеры назывались его именем.
- Макс Линдер! - слышалось на улице. - Макс Линдер!
Это был маленький, изящный, вертлявый молодой человек - хорошенький, черноглазый, с тоненькими усиками, которого мы всегда видели одетым с иголочки. Цилиндр Макс Линдера! Как много он занимал внимания тогда.
Он был настолько невелик ростом, что, взобравшись на ограду кафе, я увидел его цилиндр сверху. Совершенно верно, он был совсем маленький, крошка, маленький франт в цилиндре, в черной крылатке, хорошенький, с усиками.
Его ждали в кафе, и вот он прибыл.
- Макс Линдер! Макс Линдер!
Я вишу, ухватившись за узор ограды, и в моей сведенной ладони еще и скомканные листья, потому что ограда чем-то увита, каким-то плющом.
Это происходит вечером, в эпоху, когда еще не применяются прожектора для уличных целей, когда электричество еще не слишком ярко. Усики Макса Линдера блестят так, как блестели бы, освещай их попросту свеча. Он розовощек, и глаза его блестят.
Его встречают аплодисментами, он входит между каких-то поручней и исчезает для меня навсегда. Ну что ж, во всяком случае, я его видел живого, Макса Линдера!.. Он покончил с собой одновременно со своей молодой женой. Чаплин называет его учителем. Макс Линдер, между прочим, отмечает огромный композиторский дар Чаплина. Мы убедились в справедливости этого мнения.
- Макс Линдер!
Его имя было широко известно. Оно стало нарицательным. Быть Макс Линдером значило быть франтом.
Я отыскивал этот иллюзион - именно отыскивал, а не привычно направлялся к нему. Я только знал, что он на Градо-начальническрй. Вот кирха, надо обойти кирху. Я обошел, побаиваясь темноты за плечами ее статуй. Весной - и этой весной тоже - появятся цветы в палисаднике перед кирхой, цветы на узких кустах...
Город по ту сторону кирхи был мне неизвестен. Там мне было страшно идти. Почему? Не классовый ли страх более бедных районов?
Так или иначе, но я нашел этот иллюзион. Он назывался "Гигант". По теперешним временам это было обыкновенное кино, по тогдашним - действительно необычно большое...
Сегодня сокращенно, в художественных образах я видел во сне всю свою жизнь.
Однажды, будучи маленьким гимназистом, я пришел к главному врачу - разумеется, не по собственному почину (вот еще!), а исполняя волю именно гимназического начальства, считавшего, что мне необходимы очки.
Я до поразительной отчетливости помню наполненное закатным солнцем парадное, площадку, загибающийся марш лестницы, дверь. И как раз запомнилось, что в эти мгновения я думал о моей жизни - словом, как и теперь думаю! С тех пор прошло более сорока лет - но ощущение, скажу, такое, как будто прошло всего лишь полчаса. Я думал в этом парадном о том, что быть человеком трудно. Мне только лет десять - и я уже встревожен! Помню затем, как врач говорит, что мне нужно беречь глаза. Смешно, уже сорок лет назад мне нужно было беречь глаза! Сам осмотр глаз в памяти не остался. Но зато помню, как я иду по Дерибасовской мимо иллюзиона Розенблита и передо мной в осеннем воздухе движется перед самыми глазами светящееся кольцо. Это уже я в очках, прописанных мне врачом. Я даже помню, как звучит мой голос, когда я говорю товарищам об этом кольце. Боже мой, помню и голоса товарищей! Это происходит вечером, происходит, как я уже сказал - осенью, и оттого, что вокруг слякоть и падают капли, призрачное кольцо выигрывает в блеске...
Бабушка уже в третий раз будит меня.
- Да, да, сейчас, - отвечаю я, - сейчас...
Однако нужно вставать все же. И я встаю. В комнате еще ночь, горит, как будто ее и не тушили, лампа. В коридоре - там вообще ночь, без лампы, даже еще с привидениями.
Я моюсь ледяной, зимней водой под краном. Здесь, в кухне, тоже ночь, но в окнах, может быть, потому, что лампа здесь слабее, я вижу как будто признаки все же дня - пока еще темно-синего, как железо.
Какие-то гудки вдали, от которых делается печально, настолько печально, что печаль эта кажется непоправимой. А тут еще нужно идти в гимназию!
После стакана чаю становится легче. Кусок хлеба с маслом, об которое пачкаешь пальцы. Как крепко спят за белой дверью папа и мама! Кажется, что их вообще нет - такая тишина за дверью. Только вытянутые губы замочной скважины - единственное, что живет в этой двери. Может быть, вообще нет ни папы, ни мамы - я один? Ни бабушки, ни сестры - один? Кто я? А? Кто я? Тот, на кого я смотрю в еще темное, как вода, зеркало, не отвечает. Там лицо, в зеркале нечто удивительное - лицо с двумя... С чем - с двумя? Что это, глаза? Почему их два - а смотрит на меня кто-то один, я? С чем сравнить глаза? Они молчат и смотрят. Молчат, а кажется, что говорят. Что это?
Есть папа и мама, есть и бабушка, есть и сестра... Есть день, который уже стоит на всех улицах, в переулках, даже в парадных, когда я выхожу из дому - белый, грязноватый день в ноябре, исчерченный ветками, но чем-то приятный. Не тем ли, что на афише нарисован клоун - и что он - суббота, оканчивающаяся цирком?
Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту и все по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо - один квартал по Ришельевской - и налево: Дерибасовская.
Это был главный отрезок пути. По величине и по значению. Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.
Я почти всегда спешил, боясь опоздать, и насколько помню, опоздал только один раз за восемь лет учения.
Путь был обставлен ритуалами, пронизан суеверием, заклятиями. Так, например, следовало не пропустить некоторых плиток на тротуаре, во что бы то ни стало ступить на них. Или стоявший на Дерибасовской огромный старый дуб следовало обойти вокруг... Иначе в гимназии могли бы произойти несчастия - получение двойки или что-нибудь в этом роде.
В магазине кожаных изделий Чернявского стояла модель лошади. Может быть, и не модель, а просто чучело. Да, пожалуй, именно чучело, уж очень, как на живой, торчали на ней отдельные шерстинки.
Это была поджарая с тонкой шеей лошадь - каких у нас я не видел, по всей вероятности, так называемый гунтер, охотничья лошадь. Она была оседлана. По обе стороны висели стремена - по обе стороны картонных, как казалось, боков.
Ужасно хотелось сесть в седло, вдеть ноги в эти стремена. Мне кажется, что я до сих пор вижу глаз этого гунтера, огромную, блестящую черным пуговицу...
Я не имел ни малейшего представления о том, как создаются стихи. Я был гимназист - стихи мы учили наизусть: Пушкина, Лермонтова, Плещеева, басни Крылова, Дмитриева, силлабические стихи Кантемира, стихи Майкова.
Майкова - "Кто он?" - о Петре Великом, как он скачет по глухим местам в районе строительства Петербурга и, встретившись с крестьянином, разговаривает с ним.
Я помню:
Ехал всадник, пробираясь
к светлым невским берегам.
Выученное наизусть декламировали, стоя у кафедры лицом к классу.
- Прочтите стихи.
И мы, морщась и моргая от желания вспомнить и прочесть до конца, читали.
Басню декламировали с выражением, немного бабьим, поучительным, пожалуй, в стиле Малого театра (хоть мы, будучи одесскими мальчиками, мало что о нем знали).
Когда я был гимназистом, фамилия Маяковский была мне уже известна, но не как фамилия поэта, а как страшное слово - это была фамилия очень строгого преподавателя.
Он преподавал историю.
Обычно грозой гимназии бывали преподаватели латинского языка. Это понятно. Латынь - это предмет, требующий ежедневного, неукоснительного изучения, требующий ни на мгновение не исчезающего внимания... Стоит не сообразить, куда вдвинут хотя бы ничтожнейший шурупчик из этого языка-машины, как вся машина в скором времени рушится, погребая под собой несчастного школьника. Отсюда и страх перед латинистами. История - как раз предмет, если можно так
выразиться, длительный, льющийся, обходящийся без того, чтобы внимание было постоянно напряженным. И тем не менее преподаватель, которого звали Илья Лукич Маяковский, вселял в нас тот ни с чем не сравнимый гимназический страх, который имеет свойство, уже будучи понятным, все еще жить в нас и проявляться, например, во сне, когда мы уже далеко ушли от гимназического возраста.
Страшный преподаватель как раз выглядел красиво: в ярко-синем мундире, желтолицый, как монгол, и с косыми, по-монгольски же, скулами, но не худой, а гладкий, с черной бородой - нечто вроде Бориса Годунова.
Вот он входит в класс. Когда сорок мальчиков одновременно встают, причем откидывая специально для этого приспособленную доску парты, - звук получается довольно внушительный: похоже на короткий порыв ветра. Маяковский вносит в комнату, где сорок мальчиков, свои черные глаза, синее пятно своего мундира и ту тишину, которая наступает в испуганном классе...
Для меня было совершенно неожиданным услышать на первом уроке латинского языка, что на этом языке говорили римляне.
- Язык наших предков римлян, - сказал директор гимназии, обычно преподававший латынь именно в первый год ее изучения - во втором классе.
Теперь мне кажется странным, почему директор назвал римлян нашими (то есть русских мальчиков) предками... Это, впрочем, неважно, он выразился общо - предками, имел он в виду, нашей цивилизации. Но "римляне говорили по-латы-ни" - это было неожиданно, удивительно!
Как? Вот эти воины в шлемах, со щитами и с короткими мечами - эти фантастические фигуры, некоторые с бородами, некоторые с лицами, как бы высеченными из камня, - говорили на этом трудном языке?
По-латыни, знал я, говорит во время богослужения ксендз. Ксендз был фигурой из мира тайн, страхов, угроз, наказаний - и вдруг на его же языке говорят воины, идущие по пустыне, держа впереди себя круглые щиты и размахивая целыми кустами коротких, похожих на пальмовые листья мечей? Это было для меня одной из ошеломляющих новинок жизни.
Я не знал еще о переходе латыни к церкви из Древнего Рима.
От него свежо пахло одеколоном, бородка была чистая, солнечная. Клянусь, он искренне казался мне красивым... Этот синий мундир, эта изящно поворачивающаяся небольшая голова! Я ловил себя на том, что мне хотелось бы, когда я вырасту, быть таким, как он, как "Штрипка"!
Он преподавал латынь.
У него была голова Петра I на небольшом, причем апоплексическом туловище. Он был, пожалуй, более щекаст, чем Петр. Он носил какой-то особенно синий, скорее, голубой, чем синий, мундир с ярко выраженными полами, которые развевались, когда он шел по коридору сквозь мед солнечного света.
Знания его по литературе, конечно, были ничтожными. Он вызывал, спрашивал, ставил отметки. Как он преподавал - не помню.
Учение уже подходило к концу, седьмой класс. Мы уже царствовали в классе - преподаватели ко многим подлизывались.
Теперь мне кажется, что он был похож не только на Петра I, но еще на толстую, с серьезно недоумевающим взглядом девочку. Вот я закрываю глаза, и он сидит на кафедре с черными блестящими, откинутыми назад волосами, с маленькими розовыми комками ручек и напластованиями какого-то недоумения на лбу.
Математику преподавал Николай Васильевич Акимович. Он был в чине статского советника - на синих петлицах его тужурки сидело, значит, по звезде. Об этих звездах только и скажешь, что они сидели. Пушистые, из тоненькой серебряной нити - верно, они сидели, как сидят снежинки.
Акимович был наш знакомый - папы и мамы.
- Статский! - вдруг слышалось в передней восклицание папы.
Это пришел, значит, Акимович.
Чаще всего это было связано с тем, что вечером будут играть в карты. Обедали. Жутко было видеть преподавателя, так сказать, замиренным. Седая борода вдруг оказывалась в кулаке. Он начинал вдруг смотреть на меня. Ну, нет, не с тем, чтобы к чему-то притянуть меня! Наоборот, он шутил!
- Статский, - говорит папа, - а пива выпьем?
Меня посылали за пивом. Акимович уже был под хмельком. Он пытался сострить по поводу того, что я иду за пивом. В общем, это был человек добрый, не сухарь, не мучитель - наоборот, хороший, его любили...
Где продавалось пиво? Кажется, в тех же бакалейных лавках, где продавалось и все. Пиво Енни!
- Нет, нет, только не Енни! - кричал папа вдогонку. -
Санценбахера!
Маленький отрезок цветущей улицы вел к бакалейной лавке. Угол, выступ большого дома, ступеньки вниз. Сбегаешь. Вот она лавочка! Вот бакалейщик... нет, жена бакалейщика! Она по ту сторону бочек с крупой, с мукой, с рисом. В каждой бочкг большой деревянный, сухой-сухой совок.
Французский язык преподавал Витман, по имени-отчеству Пантелеймон Карлович. Не совсем обычное имя не только для русского, но и для француза. Считалось, что он эльзасец. Он был превосходный человек, не вступавший с гимназистами ни в какие конфликты, без тени формализма, чиновничества и прочего, что у других преподавателей рождало просто садизм.
Мы все очень боялись директора. Он действительно был какой-то страшный. По внешности это был сухопарый, с козлиной бородой, высокий изможденный господин, ходивший по сияющим коридорам, как-то летя.
Иногда он внезапно, что всегда было похоже на завершение некоего грозного порыва, входил в класс.
Фрр!
Это встают сорок мальчиков. Сорок лиц смотрят на дверь. Он стоит мгновение в дверях, как коршун - если бы коршун был высок и взвивался на дыбы.
Тук-тук-тук-тук...
Это мы садимся.
Он идет высокий и прямой, но с тенденцией сгорбиться как бы под ношей сознания того, как скверны, как подлы мы - ученики. О, он был очень театрален. Каждый шаг его был рассчитан, должен бы пугать.
Зачем он, например, пришел?
Преподавал гимнастику в гимназии борец Пытлясинский. Это был экс-чемпион мира, старый конь, вернее - бык, хотя и не бык, скорее, кит, поставленный на хвост. И не кит! Просто старый борец, ходивший не в трико на полуголом теле, как это бывает на арене, а в дешевом штатском костюме, в тройке, - и что он борец, было заметно по нечеловеческой ширине плеч, выпуклым икрам, маленькой голове.
Мы были знатоками цирка, появление Пытлясинского ожидалось нами сенсационно.
- Пытлясинский!
Он появился перед шеренгой, выйдя из маленькой ниши в стене, окружавшей двор; вышел упруго, как ходил на арене, привычно атлетическим шагом, пружинисто. Он был необыкновенен, странен, заманчив, и вместе с тем лицо у него было простое, солдатское, лицо польского крестьянина - с борцовскими скулами и усиками, но такие же скулы и усики могли быть и у матроса.
В ту эпоху были еще последние годы перед рождением спорта в его современном виде, этой международной новинки, которой суждено было впоследствии так ярко засверкать перед миром. Тем более не имела широкого распространения гимнастика - в школах. Пожалуй, и соколиная гимнастика появилась позже того дня, когда экс-чемпион мира стоял перед нашей шеренгой. Я описываю эпоху 1910-1912 годов. Кажется, впрочем, уже вертят пражские соколы свои деревянные бутылки с крашеной нашлепкой на тонком горлышке...
Как бы там ни было, но царский режим еще не знал в точности, что это гимнастика и зачем она. Вот решили привлечь к преподаванию ее - бывшего борца, попробовать. И он не знал, как это делается, и он вышел к нам со смущенным выражением. И тут он открыл страницу моей жизни, настолько удивительную, что, перелистывая книгу, я то и дело останавливаюсь именно на ней: Пытлясинский стал учить нас прыгать.
Принесли две высокие, неподвижно вставленные в крестовины штанги, принесли длинный, с двумя тяжелыми мешочками по концам, шнур. В штангах были идущие кверху фабрично просверленные отверстия - в одно из них борец воткнул прошедший насквозь деревянный катышек, такой же воткнул и в противоположно стоявшую штангу...
Мы поняли.
- Шнур! - пронеслось по шеренге. - Шнур!
И шнур повис на катышках, протянутый между штангами, как повисает лента финиша. Два мешочка, тяготея к земле с обеих сторон, натянули его до блеска.
Ракетки выдавались в так называемой грелке инструктором Иваном Степановичем, который вынимал их из шкафа, подхватывая вываливавшиеся одновременно баскетбольные мячи, какие-то большие тапочки, большие кожаные перчатки.
Он не любил выдавать ракетки - самый ценный товар из своего хозяйства. Ему представлялось, что обязательно ракетка будет повреждена, оказавшись в руках этого неосторожного грубого гимназиста... В самом деле вдруг сверкнувшее золото струн сообщало ракетке вид какой-то особой ценности, принадлежности к какому-то особому миру красоты...
Выдавались также два мяча, очень шаровидные, очень тугие - два маленьких белых шара с затаенной в них страшной силой удара и полета, которые тотчас же оказывались на струнах, тотчас же начинали подпрыгивать, отчего струны пели.
Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке.
- Осторожно, - предупреждал он, провожая взглядом ракетку, - смотри, осторожно!
По ту сторону двери грелки стояло лето во весь рост трав, цветов, деревьев. Тень тополя летела на меня, как дирижабль...
Попечителем Одесского учебного округа был Щербаков. Это был горбун, которого я видел один раз в жизни - он вошел в многоугольнике синего мундира, далеко, как все горбуны, выбрасывая руки, ниже всех, кто шел вместе с ним, но шире, именно так - многоугольная фигура с маленьким плугом груди под самым подбородком.
Он присутствовал при уроке. Ученики отвечали, он слушал. Все время я видел кисти его рук - то впереди его лица, когда они походили на две половины незатворенных и ходящих под ветром ворот, то разбросанными в разные стороны, когда...
Этот отрывок так и останется неоконченным. Сиди, горбун, за зеленым столом с двумя жирафами пуговиц мундира, с синим бархатом петлиц, покрытых пылью, и со звездами статского советника среди этой пыли, звездами-сороконожками.
Да здравствуют краски!
Протопоповых было два брата, один в более высоком классе. По всей вероятности, это были болгары. И Ляхницких было трое. Сперва в нашем классе был только один - как раз Володя... Два старших его брата были в старших классах. Но постепенно все братья соединились, так как два старших все отставали и отставали. И вот трое Ляхницких сидят у нас на задних партах, все похожие друг на друга, хохочущие обезьяньими ртами. Война. Один окончил гимназию досрочно, стал офицером, нес в Одессе караульную службу. Вдруг узнаем мы, что он застрелился во время дежурства - выстрелил себе в рот. Потом белогвардейщина. Протопопов погиб на Дону за власть помещиков и капиталистов. Где Володя Ляхницкий - это неизвестно мне, скрыто от меня, но я вижу его в виде быстро извивающейся по листу линии... Вот, вот смотрите! Вот уже человечек появляется на бумаге, вот собака, вот шарж на Сережу Протопопова, который, конечно, рисует лучше меня!
Из всех красок самая красивая - кармин. И название ее прекрасное и цвет. Почему она называется - кармин? Это какие-то моллюски? Что может быть приятней, как держать в руке кисточку, которая только что зачерпнула кармину! Вот сейчас он начнет ложиться на александрийскую бумагу, рождая лепесток мака - язычок, почти шатающийся на бумаге, как под ветром...
Меня сейчас интересует только одно - научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет...
Пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования, Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развевается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения.
- Эва, наливает! Глядите-ка, эва! - восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева.
Он особенно любил Колю Данчева.
Коля Данчев - болгарин. В Одессе их много, болгар - целая колония. Кроме Данчевых - Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев небогатый, однако все же помещик, мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос, он сильный мальчик - даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики...
Я всю ночь рисовал и писал акварелью эту картину для украшения программки, которую завтра на концерте, предполагалось, преподнесут кому-то из высокопоставленных приглашенных. Мне кажется сейчас, что я рисовал богатыря, рубящего мечом медведя. Самокиш-Судковского? Васнецова? Очевидно, я рисовал и писал красками неплохо, если эту программку на другой день предполагалось преподнести знатному гостю... Не помню, как я рисовал и писал. Помню, что я устал, что слипались глаза... Помню лицо богатыря с бородой под шлемом. Помню, что сижу за обеденным столом, один, в спящей квартире - один, сзади, за спиной, окна, выходящие во двор, ночь. И лицо богатыря под шлемом, и страх нанести ошибочный штрих тонкой кисточкой, берущей блестящую зеленую или кармин. Сзади окна, а чуть дальше Строгановский мост над поросшими травой улицами порта, еще дальше пароходы, пришедшие из Италии, Англии, спят в каютах негры. И где-то спит в своей комнате, которую я никогда не видел, Поля Аушева, гимназистка с белым твердым лицом, с белым твердым носиком, небольшого роста - с глазами, которые сейчас смотрят на меня из-за обоев.
Поля Аушева! Она несколько лет спустя, выросши, стала актрисой, плохой актрисой районного, как бы теперь сказали, театра. Тем не менее я ждал того часа, когда, поднимаясь по Греческой улице, я пройду мимо ее окна - по ту сторону улицы - и увижу ее в окне, всегда садившуюся к этому часу к окну и отвечавшую мне на поклон.
Милеев рисовал, подражая Врубелю. Собственно, не рисовал - писал акварелью. Небольшие листки александрийской бумаги, на них изображения чего-то вроде Берендеева царства, как его изображают в опере или на выжигательных шкатулках. Сходство с Врубелем усматривалось, вероятно, в том, что на листках, густо покрытых красками, было смешано лиловое с белилами. Белила, как известно, чужды акварели, и наличие их казалось поэтому экстравагантным, левым. Вот и Врубель! Разумеется, мы, сидевшие в классе, мало разбирались в именах современных нам художников; о Врубеле говорил учитель рисования, выделявший среди нас Милеева именно как последователя Врубеля. В этом альянсе учителя с учеником было нечто раздражающее - в особенности это касалось меня: я чувствовал, что то жреческое высокомерие, которое проявлял Милеев по отношению к нам, ни на чем не основано. Наоборот, я чувствовал, что он бездарный и что нет ничего легче, как выехать и показаться гением, как раз подражая левому.
Он серьезно верил, что он гений. До сих пор помню, как рассматриваются его картины, похожие, как я теперь понимаю, на оперные эскизы. Это был десятый, сотый отголосок того Врубеля, который и сам не кажется замечательным, - Врубеля принцессы Грезы.
Я этого Милеева видел уже во времена, когда гимназия осталась далеко позади. Он был отечный, надутый, больной, дающий классический тип именно непризнанного человека. Конечно, я спрашивал его, что он теперь делает, чем занят; он отвечал мне что-то, что по содержанию и по тону былс направлено, главным образом, на то, чтобы парировать какую-то мою атаку на него, которой вовсе и не было.
В классе нашем, между тем, были поистине одареннейшие два художника - причем не проявлявшие себя в каких-либо акварелях, где можно, в конце концов, быть и неточным, производя все же впечатление, а работавшие пером. Это были иллюстраторы, карикатуристы - как теперь думаю я, блестяще владевшие этой манерой - трудной манерой, требующей настоящего мастерства. Ведь им было всего лишь по семнадцати лет! Одного звали Сережа Протопопов, другого - Володя Ляхницкий. В них было прелестно то, что каждый из них говорил именно о другом, что вот как раз он хорошо рисует, а я как раз - ерунда. Сережа Протопопов был некрасив той чарующей некрасотой, которая выдает гения: он шепелявил, хохотал малопоместительным ртом, что заставляло его по-старушечьи морщить свое молодое лицо... Володя Ляхницкий был обезья-новидный мальчик, тоже любивший хохотать - тут уж во весь весьма поместительный рот - от уха до уха, - любивший разыгрывать, но вместе с тем и показывавший то и дело доброе и большое сердце.
- Вот! Вот как Сережка рисует! - восклицал он, потрясая рисунком со стекающими школьными чернилами.
Я дивился им обоим, и когда я теперь думаю о тех деятелях в области таланта, которых я знал, то я готов прийти к выводу, что те двое, два странных, юных, небрежных, хохочущих мальчика - мастера, - что именно они вьются где-то и летают где-то с трубами на углах хартии моей жизни - жизни художника.
Сережа Тодорович был одним из красивейших в классе. Пожалуй, он был несколько полноват для юноши... Правда, правда, мы иногда посмеивались над его толщиной, хлопали его по заду. Нет, все же красивый: этот профиль с филигранным носом, эти выпуклые голубые глаза...
Мы сидели на одной парте. Он учился плохо, списывал у меня письменные работы, получал за это единицы. Он хохотал, не терял веселого расположения духа. Его даже не слишком расстраивал вечный триппер. В почти голубой форме, с лакированным дорогим поясом, изящно полный, живущий в хорошей квартире, где папа был прокурор, он в общем процветал, был счастлив.
Он был нежно глуп, вот что я о нем сказал бы, - нежно глуп.
Скшиван был болезненный мальчик, очень болезненный, что проявлялось иногда у всех на виду, когда вдруг во время урока с ним происходила дурнота, оканчивавшаяся рвотой. Он был поляк, звали его Фаддей - то есть по-польски Тадеуш - с характерной для поляков фигурой губ, как бы постоянно сложенных для причмокивания, бледный с желтоватостью на скулах, в отношении волос - пегий.
Директор, вообще хам и еще щеголявший хамством, относился к Скшивану с какой-то даже подчеркнутой вежливостью - не знаю почему; тот не принадлежал к богатому семейству или бюрократическому семейству... Возможно, здесь играла роль какая-нибудь интимная причина, какая-нибудь далеко стоявшая от гимназии и гимназистов женщина, близкая директору...
Один из сидевших на первой парте в среднем ряду - по фарватеру, так сказать, впереди меня - был Сперанде. Это был маленький, миниатюрно сложенный мальчик, очень быстро и притом так заманчиво бегавший, что каждому хотелось его поймать. За ним постоянно бегали в коридорах и во дворе - бегали гимназисты разных возрастов, а иногда и некоторые из учительского персонала. Так и остался в моей памяти Сперанде убегавшим от кого-то... И все кричат со всех сторон:
- Спирка! Спирка! Скорей! Спирка!
И Спирка с визгом проносится в разных направлениях, влетая в голубое пространство между двух акаций, перепрыгивая через деревянную ступеньку и даже, что запрещалось, выбегая на улицу, где сразу же и преследуемый и погоня окаменевали. Уже шагом, отдуваясь, возвращались они во двор...
Он был, вероятно, маленький грек, этот Сперанде, Спирка. Впрочем, масть его была желтая, носик острый - может быть, и не грек! Так и бегает в моей памяти Спирка, наверно, давным-давно убитый на Дону среди белогвардейцев, или, наоборот, среди солдат латышской дивизии. Возможно, он и живет где-нибудь в Афинах, служит, может быть, в греческой полиции или имеет лавочку - и тоже, может быть, как и мне, снится ему иногда гимназия, тот уголок, полный влетающих в него благоуханий, где гимназисты, расхватывая шинели, толпились, ругались, целовались, зная, что сейчас выбегут на улицу и полетят на крыльях акаций.
Куда шел Лукашевкер? Что ж, домой, завтракать. Это было как раз в полдень, чуть позже, когда солнце поворачивалось под куполом. Лукашевкер понес свое полное тело впереди меня, поскольку уже попрощался со мной. Понес свое толстое тело в форме гимназиста среди клумб и стеклянных шаров этого великолепного барского палисадника - понес его по направлению к парадному, прохладно и богато черневшему по ту сторону клумбы с ее скульптурой лилий и гладиолусов.
Несколько лучше, чем сейчас, чувствовал я себя в те минуты, когда входил в квартиру Гришки Зильберберга. Вместе с ним, с Гришкой Зильбербергом - шел к нему в гости...
Я чувствовал себя, вероятно, очень хорошо, поскольку я был совсем юн, мальчик - здоровый мальчик, хорошо учившийся и чувствовавший, что впереди много интересного. Зильберберг-отец был богатый человек: у Гришки, например, была собственная комната. Нас встретил беспорядок в этой комнате - я сказал бы, желтый, деревянный, не мучительный, а скорее привлекательный беспорядок. Мне кажется, что даже была в комнате оставшаяся от детства лошадка на двух желтых деревянных дугах для того, чтобы на ней кататься.
Полное ничтожество даже в гимназическом плане. Правда, красивый парнишка, с золотистыми волосами и черноглазый. Фамилия его была Шиян.
- Павка Шиян!
Так фонетически и выскакивает он иногда из самых неинтересных складок сознания - только фонограмма, запись даже не его голоса, а чьих-то других голосов, зовущих его:
- Павка!
И вдруг появилось и изображение... Солнечный день, спуск по Греческой, от Пушкинской к Польской, мимо ворот и кондитерской Мелисарато - солнечный под деревьями кусочек улицы, и мы на этом или, вернее, в этом кусочке - нас несколько, мы молодые, которых не могу назвать всех.
Это очень давно, очень! Другой строй, другой мир! Это война, это царь, это ризы, это иконы, которые везут в экипаже, большие темные лики по соседству с лампасами и кителем полицмейстера, это синие купола подвория, это матросы с усиками, с бочкообразными грудными клетками...
Это два матроса, которые идут по спуску мимо кондитерской Мелисарато навстречу нам.
- Подлец! - говорит Павка Шиян одному из них. -
Подлец!
Павка Шиян два или три дня тому назад стал офицером. Золотая голова, золотые погоны, золотая тужурка...
— Подлец!
— Виноват, - говорит тот с усиками, красавец, чистый, розовый, с ласковыми усиками. - Ваше благородие, виноват.
Оба стоят навытяжку, зрелые люди...
Мы поджидали его появления и когда видели, что вот он уже близко, занимали позиции с таким расчетом, чтобы и продолжая свой путь он встретил на нем каждого из нас - одного, потом другого, потом третьего - и каждый из нас, три мальчика, мы стояли во фронт, отдавая ему честь.
Генерал с чрезвычайной серьезностью и вежливостью отвечал нам. Генеральская шинель вдруг под влиянием ли ветра или от какого-либо движения показывала свою красную подкладку, и это было как раз в то мгновение, которое нас радовало больше всего. У генерала были не слишком седые усы с подусниками, что делало его похожим на Александра II. Его фамилия была Игнатьев, может быть, это был какой-либо родственник автора "50 лет в строю". Впрочем, если бы это было так, то он был бы граф, а графом этот генерал не был.
Некоторых я помню настолько отчетливо, что кажется, мы только что расстались.
Вот по залитому солнцем Строгановскому мосту мы идем с Гришкой Берберовым. Куда - не знаю; может быть, уже откуда-то... На мосту никогда не бывает тени. Только от пешеходов, очень черная круглоголовая тень...
Внизу за прутьями ограды - порт! О порте потом. О порте потом. Сейчас о Берберове. Он сын парикмахера, бледный, худой, в веснушках, греховный, познавший многие тайны, с мужским выпуклым взглядом еврей. У него впалая грудь, над которой висит взрослый нос; у него африканская фамилия... Гришка Берберов гимназист с весом, второгодник. О, главное, познавший тайны, познавший тайны...
Мы останавливаемся над портом, смотрим вниз. Там в мерцающей глубине булыжники, среди них трава.
— Идем, идем, - говорит непоэтический Берберов. - Идем.
— Куда?
Может быть, он ведет меня познавать тайны?
Когда я только поступил в гимназию и совсем маленьким мальчиком, хоть и в форме, ходил по коридорам, дивясь на взрослых гимназистов, вдруг стало известно, что как раз один из старшеклассников - Ольшевский - покончил с собой, застрелившись из револьвера. Каково было понять это? Во всяком случае, акт воспринимался с внутренним уважением. Мы, приготовишки, между прочим, вдруг подкрались к дверям класса, к которому принадлежал самоубийца, и закричали: "Ольшевский!" - так сказать, пугая товарищей погибшего... Дурачки! И как это мы умудрились представить себе бедного юношу в виде привидения! Почему застрелился, не помню. Впрочем, мы и не поняли бы, если бы узнали, что причина, скажем, сифилис. Тогда это было частым явлением. Когда-нибудь я расскажу, как уже в более позднем возрасте один из моих товарищей, грек, сын булочника, поняв, что он заболел сифилисом, пал при всех нас, в общем, циниках, на колени и молился, прося бога о чуде - исцелении... Я видел эту язву, этот страшный твердый шанкр, через воронку которого столько жизней свергло себя в неизвестный край. Я еще расскажу об этом и также о том, как великий Плавче, корифей венеролог в тогдашней России, не признал язвы за сифилитическую, дав понять при этом, что некоторые врачи наживаются даже н тут - на этом страхе, порой обходящемся в смерть.
Мне было одиннадцать лет, и я сидел в цирке на чемпионате французской борьбы. Так как было лето и цирки уже не работали, то этот цирк был некоей комбинацией цирка и кино, то есть был еще и огромный висящий впереди меня экран. Кроме того, ряды стульев были расставлены и на арене с расчетом, чтобы зрители могли смотреть на экран. Очевидно, борьба происходила на какой-то эстраде перед экраном, этого восстановить в памяти я не могу.
Дело и не в этом. Дело в том, что я, чтобы лучше видеть, то и дело поднимался - вернее, приподнимался, кому-то, вероятно, мешая. И в одно из таких приподниманий я, маленький гимназист, болезненный, способный, неглупый и, в общем, нетребовательный к миру индивидуум, был остановлен сзади тяжкими руками кого-то.
- Если вы еще раз позволите себе подняться, - услышал я, - я выведу вас из цирка.
Меня потрясло ощущение колоссального количества накопленного против меня гнева в этом человеке, которого я еще не видел. Я его увидел. Это был известный в Одессе пристав Радченко. Он был даже по-своему красив в своей серой шинели и с черными усами. Тут воспоминание кончается. Я только помню ощущение обиды, которая была, очевидно, и у студентов-террористов, только в другом масштабе.
Не успели мы освоиться с тем, что один из нас попал в эти страшные лапы, как тут же стало известно, что он и побежден. В зимнее утро, только-только вставши ото сна, только-только раскутавшись в швейцарской, довольно тягостно было услышать, что Володя Долгов умер.
Да, да, от скарлатины. Что могло быть страшней этого слова? Звук "скарла" заставлял меня содрогаться. На других языках это иначе. По-немецки, например, шарлях. Там нет этого "скарла", которое представлялось просто некоей одушевленной фигурой, некоим гением, приходившим в спальню за детской душой.
Я пишу о времени, когда не было пенициллина. Скарлатина была бичом детства, первых классов гимназии. Еще был крупп - нечто еще более страшное, еще более заставлявшее
нас содрогаться, но это было связано с деревней и пребыванием где-то очень за темными окнами, в которые, сидя у лампы, даже и не очень хотелось смотреть.
Я не помню, как выглядел Володя Долгов. Его смерть - событие ранних лет моей жизни, событие из жизни первоклассников, мальчиков лет по одиннадцати... Тем не менее это событие незабываемо. Надо не надо, оно всплывает в моей памяти во всей своей значительности и торжественности.
Он был из относительно высоких мальчиков. Это я помню - высокий. Помню его в виде высокого голубоватого пятна - это он стоял поблизости, когда я разговаривал с кем-то. Голубоватое пятно - это потому, что мы были в серых форменных костюмах. Боже мой, что можно помнить, если это всего лишь первый класс! Еще никто не успел подружиться и не рассмотрели друг друга, и вдруг - смерть. Что это - смерть?
Ты опять, Добродеев, всплываешь в темном пространстве закрытых век. Причем, кроме тебя, в этом пространстве я вижу еще кости Строгановского моста... Вот ты выбегаешь из твоего трактира бритый, подвижной, с голой головой - скорей похсжий на ксендза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там, - волны чайников с травой, рыбами и птицами.
Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня - во всяком случае, смеялся вместе со мной по забытому мною поводу... Чайники летали, и с них не сыпалась трава и не сползали рыбы. Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин и на котором царь поздоровался со мной, синя на лошади.
Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на Екатерининской, куда ты хоть и православный а заглядывал потому, что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил.
Коммерческое собрание помещалось в одной из фешенебельных частей города в превосходном особняке - серый, двухэтажный дом, негромоздкий, с флагштоком над главной, выходящей из угла, дверью. Я запомнил внушительно, богато-мрачноватый вид этого особняка в пасмурное утро, когда, направляясь в гимназию, я издали, с параллельного квартала, бросал на него взгляд.
Это был клуб для карточной игры, самая настоящая обираловка, но замаскированная под приличие, под внушительность - даже под благотворительность... Я, например, учился на счет Коммерческого собрания, был его стипендиатом.
Одесские богачи. Я не видел ни одного из них. Я только слышал их имена: Бродский, Гепнер, Хари, Ашкинази, Пташ-ников, Анатра... Еще многие, которых я не помню.
Это были банкиры, хлебные экспортеры, темные, преступные...
Меня никогда не интересовала экономика. Все мое существование в экономике выражалось в том, что я покупал в булочной хлеб, в магазине обуви - ботинки, в театральной кассе - билеты. Мне не приходило в голову, что такое положение вещей, в котором я получаю за что-то деньги и за что-то их отдаю, зависит от каких-то причин, которые могут изменяться и которые надо почему-то изменять. Это положение вещей казалось твердым, даже не подлежащим обсуждению, твердо ли оно, - казалось раз заведенным, давно заведенным, правильным, счастливо найденным, идеальным. В самом деле, что могло быть для воображения более достойным одобрения, чем, скажем, бакалейная лавочка? Она была освещена желтым светом керосиновой лампы, бросавшей на плиты тротуара желтые прямоугольники, иногда скошенные и предвещавшие французскую живопись; она всегда помещалась в углу большого с кариатидами дома, и, чтобы спуститься в нее, нужно было сбежать по нескольким ступенькам, отчего делалось весело; в ней можно было купить почтовую марку, переводные картинки, фунт крупы, огурцы, ракету.
Это были очень вкусные штучки, вроде, я сказал бы, огурчиков из теста. Именно так: гофрированные тестяные огурчики... Но с чем можно сравнить это тесто? Ведь это не было тесто, как в пирожке, - мягкое, белое, ватно-тянущееся... Нет, оно было, во-первых, зернистое, во-вторых, жирное и, кроме того, что сочилось жиром - этот жир был еще и сладкий.
Называлось это - чибрики.
Их продавали обычно какие-то подозрительные чернощекие люди - из болгар или турок, преступные, грязно поглядывающие... Чибрик посыпался сахарной пудрой.
Кондитерская Исаевича помещалась при выходе из сквозного двора костела на Рншельевскую улицу. Какая-то часть той сладости, которая присутствовала в причастии, в обряде похорон с их гиацинтами, кружевными сборками и мухами на лице покойника - была также и в самом духе кондитерской.
В ней продавались маленькие, узкие пирожные на польский манер с плотно склеенными сладостью дощечками теста. Пирожное стоило три копейки - но только для учащихся, для остальных - четыре. Туда шли после уроков со всех сторон гимназисты и гимназистки. В маленьком полутемном помещении было полно народу. По ту сторону прилавка, на фоне двух узких, еле заметных окон, возвышались хозяин и хозяйка.
Они знали, что мы курили. Этого нельзя было не знать: синий дым прямо-таки валил из дверей уборной! У меня осталось тягостное впечатление от той уборной. Я учился курить, не желая этого - наоборот, желая быть тихоней, послушным...
Когда Севе Орлову понадобилось сделать операцию аппендицита, его положили в так называемую Евангелическую больницу - в то обольстительное для взгляда маленькое белое здание в саду, среди ирисов и роз, которое стоит з начале Французского бульвара и мимо которого, когда ни проходишь, всегда останавливаешься, привлеченный то запахом цветов, то прелестным отражением неба в одном из не подозревающих о собственной красоте окон, то просто мыслью о том, что это лучшая больница в городе и вряд ли в таком красивом, чистом, среди цветов здании можно не вылечиться от самой страшной болезни.
Сева Орлов был болезненный юноша, маленький, мелкий, уже в те юные годы не обходившийся без очков. Незаконный сын Орлова, он представлялся нам всегда на грани каких-то семейных стычек, какого-то изгнания из дому. Разумеется, мы преувеличивали. Сева был полноправным членом семьи. Тем не менее тот факт, что его положили в лучшую больницу в городе, показался нам каким-то особым благодеянием со стороны Орлова.
От гимназистов требовалось усердное выполнение обязанностей, связанных с принадлежностью к церкви.
Я был католиком, тем не менее и мне надлежало соблюдать в этом смысле дисциплину. Так, обязан был я каждое воскресенье посещать костел.
Вот оно, одно из этих воскресений.
Я вхожу за ограду, иду по широким синеватым плитам, которые звенят под ногами. Вот ступени, я поднимаюсь, и вот я среди полумрака и прохлады каменных, а может быть, и железных сеней костела...
Здесь стоят, наклонив лбы, нищие; здесь властвует эхо; здесь я обнажаю голову.
Костел поет мне навстречу. Орган, голоса мальчиков, тонкие колокольчики. Это размашистые, гигантские взмахи звуков. Я вижу вдали, где алтарь, целую толпу, часть которой движется, часть неподвижна: это люди и статуи. Люди в черно-белом; статуи текут желтым цветом масла. Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке.
Там поют люди и орган. Поют колокольчики.
Я вхожу и первым вижу то, о чем забываю всякий раз...
Когда я входил в костел, я видел стоявшие вдоль стен на высоте второго этажа статуи ангелов - почти детей, во всяком случае не старше меня, в легких хитонах, сквозь которые просвечивали их тела. По мере моего продвижения вперед, к алтарю, образовывались ракурсы, в результате которых ангелы один за другим все более и более отворачивались от меня, а последний уже, казалось, уткнулся в стенку и плачет, скорбя обо мне, но не имея права простить меня.
Высокий, красивый ксендз, весь, конечно, в черном - сутана, шарф и свисающие кисти шарфа... Также был он брюнет, скорее длиннолицый, румяный, разумеется - бритый. Черные сверкающие глаза его иногда становились теплыми, улыбающимися и смотрели каждому из нас в глаза понимающим взглядом старшего товарища, молодого мужчины. Было о чем нам переглядываться в эти весенние дни, когда на подоконниках была рассыпана сирень, когда шумнокрылый ангел появлялся из страниц учебника, когда где-то и кто-то стучал каблуками, где-то и кто-то пел...
Я помню, сидит налево от меня, под окном, превратившись для меня в силуэт, испанец Кальсада, Колька Кальсада. Как раз перед ним кафедра, за которой сидит ксендз - ксендз Эрисмани. Тот что-то сказал, испанец; ксендз что-то ответил; оба смеются. В книжке, которую держу я, рисунки Доре - гигантские, как мне кажется, композиции: Авессалом, зацепившийся за дерево волосами, Навин под темным облаком, сквозь которое косо валится лира солнца, какой-то самоубийца, бросающийся грудью на воткнутый рукояткой в землю меч. Эти картины гудят, поют - а ксендз улыбается испанцу, и тот берет в руки сирень то лиловую, то голубую, то белую, которая почти стучит по подоконникам краями своих крохотных колокольчиков.
Обязательно заканчивать.
Начнем с короткого, чтобы легче закончить. Когда я побрился впервые? Дня, когда именно побрился, не запомнил. Помню, что еще до того, как начал бриться, подстригал усы ножницами - вернее, не усы, а то, что росло на верхней губе. Подстригал, стараясь проделывать это как можно тщательней, для чего поплотнее прижималось лезвие ножниц к обрабатываемому месту - и этот холодок металла возле носа помню до сих пор.
Домашние посмеивались над этим. В особенности - с лукавством юной женщины - сестра. Она единственная в семье считала мою наружность приличной. Родители не одобряли. Надо сказать, что понятие красивого мужчины или женщины сильно изменилось с тех пор, как родители мои были молоды. Некрасивость мужчины не есть что-либо такое, что подлежит особому обсуждению, - это во-первых; во-вторых, сейчас красота мужчины видима женщинами в другом. Сейчас невозможна трагедия Айвенго, который был некрасив. В эпоху, когда мои родители были молоды, существовала эстетика хорошеньких мужчин. Сестра, уже принадлежавшая к новому поколению, чувствовала, что красота в ином.
Самыми красивыми мужчинами представляются мне декабристы, русские аристократы, влюбленные в Наполеона и дравшиеся с ним на поле Бородина. По всей вероятности, мы далеки от точного представления о красоте какого-нибудь молодого русского князя в его кавалергардской кирасе!
Из знаменитых имен моего детства я помню имя Яна Кубелика. Это был прославленный скрипач, чех, приехавший в Россию на гастроли. Я его не слышал и не видел, потому что родители на концерты не ходили, да и ходи они на концерты, тоже меня маленького не взяли бы. Однако имя это задело мое детское внимание, потому что его часто повторяли дома, за столом. Оно было сенсационно, так как он был небывалый скрипач, как говорили за столом, первый в мире. Мне нравилось, что он именно Кубелик; я не воспринимал эту фамилию как чешскую, и потому она звучала странно, интересно.
Сенсация усилилась, когда распространился по Одессе слух, что некий студент, прослушав концерт Кубелика, застрелился и что Кубелик прислал на его гроб венок.
Кубелик - слышу я в далеком прошлом - Кубелик; вижу скрипку и венок.
Осип Мандельштам, описывая в своем "Шуме времени" концерт Кубелика, говорит, что маэстро был лилипут.
Правда - ведь он был Кубелик, то есть, хоть я его и не видел, безусловно, маленький, из теста.
Из знаменитых имен было также имя Ивана Заикина, борца. Теперь нет борцов в том цирковом виде, в каком они были тогда. Теперь борьба - еще и спорт, а тогда была только зрелищем, и ее показывали в цирке. Тогда не было, между прочим, и стадионов. В футбол, например, играли почти на пустырях, иногда вытягивающихся горбом и с полевыми цветами среди, разумеется, не подстриженной, как теперь, под ковер травы.
Борцы выступали в трико, большие, белые, похожие на женщин. Иван Заикин был одним из сильнейших мировых борцов. Перед его именем сообщалось, что он волжский богатырь. Я помню как раз случай, когда он был побежден. Он плакал, растирая по лицу слезы, и кричал, что он побежден неправильно, что он постоит за Россию (очевидно, его победил иностранный борец) и еще что-то в патриотическом духе. Вероятно, все это было подстроено, как всегда в цирковых чемпионатах того времени, - мне и тогда почувствовалось притворство. Как теперь вижу, как он ходит по арене, растирая слезы и потом кладя ладони на половинки зада.
- Братцы, я не выдам России! Не выдам!
На завтрак мне давали пять копеек. Это мало, но не так уж мало, поскольку на эту сумму можно было купить, скажем, бублик, яблоко и стакан чаю. Или котлету, на которую уходила, впрочем, вся сумма. Котлета, правда, была хорошая, пухлая, между двумя кружками белого хлеба, хорошо пачкавшимися жиром котлеты. Никогда не забуду, что стакан чаю стоил копейку. Все-таки стакан горячего, сладкого чаю!
Разумеется, это было мало - пять копеек. Мало, потому что начинало хотеться есть к первой перемене... На ней уже покупалось, скажем, яблоко. На второй перемене съедали, скажем, бублик. К большой перемене, во время которой и полагалось, собственно, есть, уже ничего не оставалось. А между тем к большой перемене привозили завтрак богатому Агаркову. Когда мы вбегали в зал, судок с этим завтраком уже стоял на столе. Иногда даже два судка. Они были плоские, две серебряные черепахи - тем более черепахи, что из обоих из-под крышек торчали начала ложек и вилок. При виде этих судков аппетит, конечно, разгорался... Однако от силы, как говорится, оставалась копейка на стакан чаю - запомнившийся мне на всю жизнь граненый и желтый от налитого чаю стакан за копейку, без блюдечка, который приходилось держать пальцами сверху, пока он обжигал паром ладонь. Благословляю тебя, стакан гимназического чая, не покидай моей памяти, не
покидай!
И вот чаще всего я не тратил своих пяти копеек на завтрак. Я их откладывал, чтобы к концу недели иметь тридцать копеек. К этим тридцати копейкам еще с большим трудом добывались двадцать, и в субботу я шел в цирк, купив билет, который для гимназистов стоил именно пятьдесят копеек. Как добывались недостающие двадцать - это тема для другого рассказа. Замечу только, что у меня была бабушка, у которой было много серебряной монеты и которая меня любила. Однажды на именины она даже подарила мне золотые пять рублей, маленькое солнце которых, выглядывавшее из-за коричневых складок кошелька, я тоже никогда не забуду, как не забуду и бабушки, лежавшей в гробу, как в легкой лодке.
Цирк всегда виднелся сквозь падающий снег. Ну, что ж, всегда была зима, когда был цирк! И я шел сквозь падающий снег, поражаясь снежинкам. И правда, они походили на сооружения техники. Некие гигантские концентрические восьмиугольники, останавливавшиеся у меня на реснице и не разрушавшиеся, хоть я и дул на них снизу. Поражало меня также, что снежинка, проплывая между фонарем и стеной, бросала на стену тень в виде, по крайней мере, маленького облака. На стене цирка висели афиши с изображением желтых львов и красного укротителя, которое, казалось, двигалось, потому что на нем были и круги, и взвившийся бич, и подкинутые задние ноги льва.
В тот вечер, о котором я хочу рассказать, должен был выступать в цирке чудо-мальчик. Что должен был делать чудо-мальчик, в афише сказано не было. Просто извещалось, что выступит чудо-мальчик, и все. Я сам был мальчик, и существование какого-то чудо-мальчика вывело меня из равновесия, Я сам был, черт возьми, чудо-мальчик. В самом деле, я то и дело слышал о том, какой я способный и какой я умный.
Рассказ, который я обязан написать и который собираюсь написать уже много лет, следует начать с описания шедшего в тот вечер снега. Это был особый снег, особый его сорт - я назвал бы его филигранным, тот сорт, когда образуются снежинки в виде крохотных изделий, совершенно, разумеется, бесполезных, тем не менее абсолютно точных - неких концентрических восьмиугольников, неких разносторонних крестов с вылетающими из углов лучами, неких звезд с поперечными перекладинами на каждом луче... Эти тельца, зацепленные вами на ходу, не разрушаются, хоть и феноменально легки: наоборот, долго висят на реснице, поддавшись на нее, скажем, крайним восьмиугольником, - и вам приходится долго моргать, чтобы свалить эту мохнатую махину, да и то, упав, скажем, на рукав, она все еще сохраняет некоторую форму. В самом деле, уж как, казалось бы, легка, а, пролетая между фонарем и освещенной стеной, бросает тень, в которой вы находите сходство даже с облачком.
Освещенная стена, афиша... Я прочитываю все те слова, которые сейчас, через десять минут, как только войдут в полную силу света висящие над ареной лампы, превратятся в клоунов, в мандолины, в маленьких собачек, в бубенчики, в лошадей, в узкие тела, летающие между трапециями. Вот только во что превратится Володя Зубрицкий, я не могу себе представить.
"Володя Зубрицкий, - написано на афише, - чудо-мальчик".
Я сам еще мальчик, хоть и гимназист, и существование какого-то "чудо-мальчика" воспринимается мною чуть ли не с раздражением.
"Чудо-мальчик"! Что это такое? Ладно, посмотрим.
На арену вынесли большую грифельную доску - поменьше, чем в гимназии, однако в хорошем четырехугольнике и на подставке, и с тряпкой в меловой пыли на нижнем ребре. Трудно было предположить, в чем будет состоять этот следующий номер программы при таком аксессуаре. Впрочем, я успел заглянуть в чью-то программу по соседству и прочесть, что выступит чудо-мальчик.
Чудо-мальчик пошел по песку арены, чуть утопая в нем атласными белыми башмаками. Почти рядом с ним, немного отставая, шел студент в черной тужурке, в пенсне, с усами и с бородкой.
Чудо-мальчик сейчас был просто довольно полным мальчиком, блондином с челкой, и не только в белых атласных башмаках, но и в таком костюме - матросском, только в коротких штанах и с воротником не синим, как у матросов, а с розовым, тоже атласным и розовым якорем на рукаве.
Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк.
Да и не только в качестве зрелища воспринимал я цирк - нет, отношение было сложнее, еще и мысли о славе переплетались у меня с цирком: я представлял себе, что буду знаменитым цирковым актером, именно прыгуном! Также и пробуждавшаяся чувственность находила свои тайные воплощения в образах цирка... Кому бы ни принадлежали ноги в трико, кто бы ни был обсыпан по бархату золотыми блестками, на чьем лице не играла бы застывшая малиновая улыбка - все это говорило о том, что в мире есть какая-то великая тайна, которую я скоро постигну, ради которой живу.
Желтая арена цирка, скажу, была дном моей жизни!
Стоит вспомнить, как горды мы в юности. Эта гордость основана на сознании своей красоты и силы - если вы даже и не красивы и не сильны! Да, да, красоты и силы, так как молодость по существу красива и сильна. Может быть, потому именно, что предчувствуешь все же, что кто-то прильнет к тебе - только к тебе, отдастся тебе, полюбит тебя!
Пожалуй, гордость - одно из главных переживаний юности... Я помню себя очень гордым - в серой шинели гимназиста, у которой черный каракулевый воротник, с лицом, которое пышет, с бровями, мягкость которых я сам ощущаю, - поистине соболиные брови мальчика!
И вот я сижу в цирке в субботний вечер. Билет куплен на деньги, сбереженные в течение недели от пятачков на завтрак. О, это никак не умаляет гордости! Боже мой, я силен и красив - я юн! - а то, что у меня нет денег, - разве они есть у полубога?
Я хорошо учился, был, как определяли взрослые, умным мальчиком, но в те детские - вернее, уже отроческие годы, никаких предвестий о том, что я буду писателем, я в себе тогда не слышал. Мне хотелось стать циркачом, и именно прыгуном. Уметь делать сальто-мортале было предметом моих мечтаний. Я пытался научиться этому в гимнастическом зале гимназии, учеником которой я состоял. Однако ничего не получилось, поскольку отсутствовали соответствующие приспособления, которые и не требовались при школьном курсе гимнастики, куда не входила акробатика. Я и не знал, что требуются приспособления, относя этот фантастический прыжок к каким-то таинственным возможностям, заключенным в некоторых людях. Я им завидовал, этим людям. Я их видел в цирке - мальчиков, девочек в белых башмаках, толпу детей, выбегавшую из малиновых ворот кулис на арену и чуть не с хохотом проделывавших передо мной то, что я не мог бы проделать даже в самом необыкновенном сновидении.
Я, между прочим, и теперь иногда сообщаю знакомым, что в детстве умел делать сальто-мортале. Мне верят, и я, вообще не любящий врать, рассказываю даже подробности.
Может быть, эта мечта уметь делать сальто-мортале и была во мне первым движением именно художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты.
Я приобрел этот билет путем непосредственной затраты сил физических и душевных - ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру... Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штемпелем!
Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штемпель... Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эха, хохота, блестящих глаз, запаха духов, стука каблуков - мало ли чего!
Цирк в детстве произвел на меня колоссальное впечатление. Мне иногда хочется сказать, что желтая арена цирка это и есть дно моей жизни. Именно так - дно жизни, потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчетливо вижу этот желтый круг с рассыпавшимися по нем фигурками людей и животных в алом бархате, в блестках, в перьях и наиболее отчетливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что он называется шамбарьер, а также крик клоуна: "Здравствуй, Макс!" - и ответ на него: "Здравствуй, Август!"
Вихрь клоуна - бело-малиново-золотой вихрь с неподвижным камнем белой маски среди этого вихря - в любой момент, стоит мне только подумать, взлетает в моей памяти. Тогда клоуны говорили как бы по-английски. Они были в белых чулках и блестящих золотом туфлях. Они давали друг другу пощечины, звеневшие на весь цирк, механизм которых трудно было и очень хотелось постигнуть.
Это было трио: двое мужчин и девушка. Да нет, не двое мужчин, а два мальчика, и не девушка - а девочка. Вот они крутят передо мной сальто. Вот же они, вот! Да вот же, неужели не видите? Никто не видит! Вижу только я, и вижу в том несуществующем пространстве, которое клубится перед моими глазами и называется память.
Крутя сальто, девочка превращалась в видение, ошеломлявшее меня, хотя ничего особенного в это время с ней не происходило кроме того, что она крутила сальто и у нее развевались волосы: я был тогда всего лишь мальчиком и представлял себе, что для любви нужно совершение более грандиозных вещей, чем просто развевающиеся волосы.
Я влюбился в акробатку-девочку. Если бы не разлетались ее волосы, то, может быть, и не влюбился бы. Если бы не разметались волосы и если бы белые замшевые башмаки так не выделялись, - то на песке, то в воздухе, то в круге сальто... Никто не знал, что я влюблен в девочку-акробатку, тем не менее мне становилось стыдно, когда она выбегала на арену. Как она была одета? Не помню. Помню только белые замшевые ботинки, твердо, как на детях, надетые и застегнутые по боку белыми же круглыми пуговицами, и помню только разлетающиеся волосы. Я, возможно, и сам не знал, что я влюблен. Мне было только стыдно - причем стыдно за нее, стыдно, что она именно такая - вызывающая во мне приятное, незнакомое, приятное чувство.
Однажды шел снег, стоял цирк, и я направился в эту магическую сторону. Там было кафе, в здании цирка, где собирались артисты. Из кафе вышло трое молодых людей, в которых я узнал акробатов, работавших с девочкой. Один из них сплюнул - с некрасивым лицом и в кепке; невысокого роста, какой-то жалкий на вид, нездоровый, с широким ртом молодой человек. Он сплюнул, как плюют самоуверенные, но содержимые в загоне товарищами молодые люди - длинным плевком со звуком - сквозь зубы. "Почему же их три? - подумал я. - Это, наверно, их товарищ, тех двух, которых мне было сейчас приятно видеть, поскольку они работали с нею". И вдруг я узнал в третьем - ее. Этот третий, неприятный, длинно и со звуком сплюнувший, был - она. Его переодевали, девочкой, разлетающиеся волосы был, следовательно, парик. Однако я до сих пор влюблен в девочку-акробатку, и до сих пор, когда я вижу в воспоминании разлетающиеся волосы, меня охватывает некий стыд.
Цирк Ефимовых был прекрасный цирк. Мы хорошо изучили все его номера: сибирских стрелков, партерных акробатов Сальтонс, трио воздушных гимнастов, клоунов Таити и клоунов Розетта... Выступали также две наездницы: мадмазель Клара и Мария Сербская. Мадмазель Клара была так называемая парфорсная наездница - то есть она проделывала свой номер, в общем находясь на широком атласном седле: стояла на нем, садилась на него, прыгая через длинные ленты, которые поперек ее пути держала униформа, и опять возвращалась на седло.
Тогда пренебрежительно говорили - униформа! Но никакого пренебрежения не испытывали по отношению к этим людям в золото-зеленых мундирах, стоявших в две шеренги у выхода на манеж. Наоборот, их очень любили и уважали. Ведь в основном униформу составляли те же артисты! Я помню, как приятно было узнать в ком-нибудь из этих молодцов молодого Таити и молодого Сальтонса...
Мария Сербская тоже была парфорсная наездница. Она появилась вдруг, без предварительного извещения в афишах, что будет показан новый номер... Она вдруг вынеслась на худой остроносой лошади, и мы еще не справились с впечатлением от первого описанного ею круга, как она уже упала. Упала на красный плюш циркового круга и покатилась в ноги партеру, кубарем среди рассыпающейся одежды и сладостно блеснув телом. Публика ахнула, но она тут же выпорхнула из своей смертной ямы и, выбежав на арену, сделала подряд несколько раз то, что на цирковом и балетном языке называется комплиментом... Она собиралась опять взлететь на атласное свое седло, но в это время униформа ловила бегавшую по арене и не хотевшую даться в руки лошадь. Стало понятно, что номер не состоится - вина была не в наезднице, а именно в лошади, и, рассыпав еще целую коробку комплиментов, Мария Сербская убежала за кулисы.
Мы с удовольствием слушаем рев зверей, доносящийся к нам во время представления из конюшей. Нет пары, которая не переглянулась бы, слушая этот рев. Он раздается вдруг - не то зевок, не то некое титаническое "а, здравствуйте!". Можно сказать, цирк наполнен каким-то ветром, каким-то эхом, когда в третьем отделении выступают хищники.
Во втором антракте устанавливают клетку, которую приносят по частям и со звоном скрепляют. Это загибающиеся в сторону, обратную от зрителя, копья. Дети знают, что это мера, еще более затрудняющая зверю возможность выпрыгнуть.
Второй антракт заполняет арену движением, которое нам очень хочется охватить взглядом и которое как раз не поддается этому: тут и галунные куртки униформы, и длинные копья ограды, и деревянные креслица с напечатанными на них весьма наивными, если учесть предстоящее, цветами, и сам укротитель, пока еще в сером халате. Вот раздается звонок - целая река звона бежит над нами, - и когда мы входим, то арена уже готова... Она желта более, чем когда-либо, потому что, знаем мы, сейчас вбегут львы!
Я видел как-то в цирке номер, который тогда назывался "Мота-фозо". Пожалуй, если сейчас напомнить Арнольду об этом номере, то он опишет его в точности...
Мота-фозо - это человек-кукла. Не какая-нибудь экстравагантная кукла - страшная или комическая - нет, это просто молодой человек во фраке и в цилиндре, просто юный франт с голубо-розовым, как у куклы, лицом и с синими, нарисованными почти до щек ресницами. Ну и конечно, как у кукол же, неподвижные, хотя и лучащиеся глаза. Его, этого франта, выносили на арену. Он был кукла. Это все видели. Настолько кукла, что когда униформа, вдруг забыв, что это кукла, переставал ее поддерживать и отходил, она падала. Причем под общий панический возглас цирка падала назад, навзничь. Ее, сокрушенно покачав головой, опять поднимали.
Проделывался целый ряд конфликтов, рассчитанных как раз на то, чтобы создавалось впечатление куклы, и номер заканчивался тем... Тем заканчивался... О, по приказу детства он заканчивался тем, что куклу несли по кругу партера, останавливаясь то перед одним мальчиком, то перед другим, то перед отшатнувшейся в застенчивости девочкой - и мы могли чуть ли не целовать его в щеки, этого старшего мальчика в белом жилете; его ресницы не дрожали, не дрожали ноздри, но все же прелестная душа улыбки, маска смеха дружески общалась с нами, на миг как бы появляясь на застывшей маске.
Где ты, мой старший брат - сказка?
Вдруг под звуки галопа он срывал с головы цилиндр и высоко поднимал его над головой, и от радости, что ожил, воздымались кверху - цилиндр, перчатка, еще что-то (плащ?), - он убегал с арены, прямо-таки весь засыпанный детскими ладошками - мало того, даже пятками, потому что некоторые малыши от восторга валились на спину!
У него всегда были деньги, и он поэтому мог позволять себе кое-что. Так он купил билеты для себя и для меня в цирк.
- Пойдешь? Конечно, я пойду.
- Только спроси маму.
Подтрунивает. Пожалуйста, это меня не обижает, поскольку мне не приходится бояться, пустят меня в цирк или не пустят - безусловно, пустят, а потом, я не вижу ничего позорного в том, что я моложе его. Он студент, я гимназист второго класса. Разница, конечно, огромная, но почему же в таком случае он, я бы сказал, даже ищет моего общества?
Может быть, он вообще не слишком смелый человек, и ему мое общество не представляется опасным в том смысле, что я его не обижу.
Он назывался "дядька Манжели". Его имя было другое, совсем другое - но мы называли его так из-за сходства его с дрессировщиком лошадей Манжели, которого мы видели по субботам в цирке.
Вот, собственно, и все о "дядьке Манжели". Нет, нужно хотя бы несколько строк еще: это был грек, родственник Ме-лисарато, с черными, смазанными бриллиантином усами и с бриллиантами на пальцах, а может быть, на шее и даже, может быть, в усах...
Вот и все о "дядьке Манжели".
Могу сказать, что видел зарю футбола. Мы, гимназисты, шли по Французскому бульвару и сворачивали в переулок, где виднелась вдали воздвигнутая с целью рекламы гигантская бутылка шампанского... Пусть не подумает читатель, что путь этот проходил среди именно урбанистических красот - так может подумать читатель в связи с названием бульвара и этой рекламной бутылкой, - нет, наоборот. Французский бульвар - это скорее в пригороде Одессы, гигантская же бутылка стояла за серым забором, среди лопухов, бурьяна, и рекламировала не саму продажу шампанского, а просто указывала, что поблизости его склад.
А может быть, ее привез торговец шампанским из Франции и потом просто не знали, куда ее поставить... Поставили в переулке - о, даже просто в проезде, пыльном, узком, между заборами, но, как кажется мне, все же прелестном, поэтическом, поскольку это было на берегу моря и по сторонам переулка, на высоте его, можно было увидеть и вырезной балкон, и откуда-то свисающую розу.
Пыль, солнце склоняется к западу, воскресенье... В середине переулка толпа, давка. Там широкие деревянные ворота, которые вот-вот вдавятся вовнутрь, лопнут под натиском желающих проникнуть на... на стадион? Нет, тогда еще не употреблялось это слово. Просто - на матч!
Посередине поля стояла полуразвалившаяся стена, я шел вдоль нее среди бурьяна, чертополоха... Стена метров в тридцать длиной, так что я успевал побывать в тени, в которой так полно, такими чашами розовели чертополохи. Где-то на высоте в стене были дыры в тех местах, где до разрушения были окна. Эти дыры в некоторых случаях были огромными, сливавшимися с небом, иногда, наоборот, они заросли чем-то шатающимся под ветром... Я редко смотрел наверх, поскольку рядом со мной вились ленты разговора о футболе, о футболистах.
Мы шли на поле Спортинг-клуба, чтобы посмотреть на очередной матч.
— А кто беки? - слышал я рядом.
— Борька Мизерский и...
Кто еще, кроме Борьки Мизерского, я не успевал услышать, так как те двое уже обогнали меня. Но я и сам знал, что второй бек - Тихонюк.
В те годы, на заре футбола, беками назывались двое игроков защиты (тогда игроков защиты было именно два). Впрочем, название это держалось довольно долго - уже в советском футболе. Беки; полузащита (трое в линию) - хавбеки; нападающие - форварды. Вратарь назывался голкипером. По всей вероятности, я не сообщаю ничего нового знатокам футбола.
Футбол только начинался. Считалось, что это детская забава. Взрослые не посещали футбольных матчей. Только изредка можно было увидеть какого-нибудь господина с зонтиком, и без того уже известного всему городу оригинала.
Трибун не было. Какие там трибуны! Само поле не было оборудованным - могло оказаться горбатым, поросшим среди травы полевыми цветами.
По бокам стояли скамьи без спинок, просто обыкновенные деревянные плоские скамьи. Большинство зрителей стояло или, особенно по ту сторону ворот, сидело. И что за зрители! Повторяю, мальчики, подростки.
Тем не менее команды выступали в цветах своих клубов, тем не менее разыгрывался календарь игр, тем не менее выпускались иногда даже афиши.
Мои взрослые не понимали, что это, собственно, такое - этот футбол, на который я уходил каждую субботу и каждое воскресенье.
Играют в мяч... Ногами? Как это ногами? Игра эта представлялась зрителям неэстетической - почти хулиганством: мало ли что придет в голову плохим ученикам, уличным мальчишкам! Напрасно мы пускаем Юру на футбол. Где это происходит? На поле Спортинг-клуба, отвечал я. Где? На поле Спортинг-клуба. Что это? Ничего не понимаю, говорил отец, какое поле?
- Спортинг-клуба, - отвечал я со всей твердостью новой культуры.
Эти мои записи имеют ту для меня пользу, что все же учат меня владению фразой. И, вообще, они приучают меня писать, от чего был очень далек когда-то. Сесть за стол, взяться за перо было бы мне очень трудно - о, почти невозможно, как из бодрствования, не заснув, шагнуть в сновидение! Я ни на что не хочу жаловаться!
Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский в белой одежде - "спортинга", позируя Перепелицыну для фотографии перед матчем. Он стоял поближе к грелке, если смотреть со стороны теннисных площадок, на том участке по дороге к грелке, который примыкает к забору, но весь в траве, весь ровно зеленый, хоть и в тени, хоть и под забором. Гриша Богемский, повторяю, был в белой одежде спортинга. Так ли это? Спортинга? Просто в белой одежде. Если бы спортинга - на груди у него виднелся бы синий знак клуба, этот небольшой синий с белым щиток. Это, во-первых, щиток, а, во-вторых, вряд ли разрешили бы ему на гимназические состязания прийти в клубной форме... Он и сам не пришел бы! Итак, просто белая одежда - белая, тонко-тонко нитяная рубашка и белые трусы. Тогда то, что теперь называют майкой, футболкой, называли просто рубашкой, хотя это была та же майка, футболка, обтягивающая туловище, а сейчас на Богемском кажущаяся мне прямо-таки гипсовой... На ногах у него черные чулки, завернутые на икрах неким бубликом и оставляющие колени голыми, а также и бутсы - старые, сильно разбитые, скрепленные, как скрепляют бочки, в обхват по подъему кожаными завязками. Самое удивительное - это всегда меня удивляет, когда я вижу Богемского или о нем думаю, - это то, что он не смуглый, не твердолицый, а, наоборот, скорее рыхловатой наружности, во всяком случае, он розовый, с кольцами желтоватых волос на лбу, с трудно замечаемыми глазами. Иногда на них даже блестят два кружочка пенсне! И подумать только - этот человек с неспортсменской наружностью - такой замечательный спортсмен! Уже помимо того, что он чемпион бега на сто метров, чемпион прыжков в высоту и прыжков с шестом, он еще на футбольном поле совершает то, что сделалось легендой... И не только в Одессе - в Петербурге, в Швеции, в Норвегии! Во-первых, бег, во-вторых, удар, в-третьих - умение водить. Гораздо позже я узнал, что это умение водить называется дриблинг. О, это было одним из самых захватывающих зрелищ моего детства, кричавшего вместе со всеми в эту минуту, вскакивавшего, аплодирующего... Лучше всех водил Богемский! Не то что лучше всех, а это был выход поистине чемпиона!
И, странно, пока Петя наводит на него коробочку своего аппарата, он стоит с видом просто какого-нибудь репетитора... Нет! Нет, нет, приглядись, дурак! Что же, разве ты не видишь необыкновенного изящества его облика, его легкости, его - секунда! - и он сейчас побежит, и все поле побежит за ним, публика, флаги, облака, жизнь!
Такой игры я впоследствии не видел. Я не говорю о качестве, о результативности - я говорю о стиле. Это был, говоря парадоксально, не бегущий форвард, а стелющийся. В самом деле, если смотреть на поле, так сказать, как на картину, а не как на действие, то мы видим бегущих футболистов в виде фигурок в основном с прямыми торсами - именно так: при быстром движении ног, при некоей колесообразности этого движения торс футболиста остается выпрямленным. Богемский бежал - лежа. Может быть, этот стиль в свое время повторил единственно Григорий Федотов, столь поразивший своих первых зрителей.
Я собирал деньги на приобретение бутсов. Нужно было внести пять рублей - в этот миг я уже получил бы их. Затем следовало бы внести еще три рубля.
Магазин этот помещался на углу Садовой и Дерибасовской. Хозяин был маленький стройный еврей - столбик, который не мог не нравиться и тем, что допускал кредит, и тем, что он был хозяин бутсов.
Вот с пятью рублями я вхожу в магазин. Столбик вырастает за прилавком. Он помнит, что я уже приходил к нему, да, да, ну как же, помнит; да, да, даю в рассрочку; совершенно верно, если внести пять рублей сейчас, то получите бутсы.
- Вот, пожалуйста. Пять рублей.
Я протягиваю руку, которая держит пятерку. Пятерка царского времени - синяя, довольно широкая, от подержанности ставшая атласной кредитка. Как я мог собрать столько! Не успеваю я протянуть пятерку, как вспыхивает ослепительный белизной полукруг - о, из мира по ту сторону прилавка ко мне! Бутсы! Это хозяин достал бутсы!
Вы знаете, что такое бутсы?
Нет, вы не знаете, что такое бутсы!
Мы доехали только до третьей гимназии, дальше пошли пешком. Скамья возле аптеки, красные кресты в окнах... Можно также любоваться на огромные бутыли с крашенной розовым и желтым водой... Они символизируют микстуру... Возле крыльца железная, торчащая из земли штучка для того, чтобы посетитель не лез с грязными ногами на крыльцо и потом в аптеку, а сперва чтобы счистил грязь с подошв. А крыльцо - каменное; стертые почти до тонкости блинов две или три каменные ступеньки.
Мимо аптеки! Дальше!
Поперек хода - сквер. Мы не смотрим на него, он сильно вбок от нас; видят его наши локти. Это Лидерсовский бульвар. Так ли это? Память, ты еще существуешь? Лидерсовский бульвар.
Я устал! Боже мой, смилуйся надо мной! Мы идем пять или шесть подростков - идем на футбол.
Я не научился плавать, ездить на коньках. Однако я был хорошим футболистом, хорошим легкоатлетом: в частности, в прыжках и в беге на сто метров. Прыгал также с шестом, что страшно, фантастично - в ином мире физики.
Почему удача в одном виде спорта и неудача в другом? Все-таки трусость: плавать надо над глубиной, которая может поглотить, ездить на коньках - можно упасть и разбить голову, можно сломать голову.
А футбол? Ведь такой же опасный бой!
Все это неважно; важно, что спорт пахнул травой. Будь благословен, горький запах! Будь благословен, сладкий цвет! Будьте благословенны, стебли, желтые венчики, будь благословен, мир!
Площадка, пожалуй, уже начинала свежо зеленеть. Да, да, уже, безусловно, появлялась новая трава!
Бутсы удивительно белели на этой зелени. Их можно было видеть, главным образом, быстро перемещающимися: по середине поля, по краям, в углах. Белые, быстро перемещающиеся башмаки.
Площадка уже зеленела в эти дни весны.
У нас это были уже дни весны! Они пахли горьким запахом именно травы. О, подождите! Подождите! Сейчас я услышу этот запах, сейчас услышу!
Во время Олимпийских игр Одесского учебного округа состоялся, между другими состязаниями, также и финальный матч на первенство футбольных гимназических команд, в котором принял участие и я, как один из одиннадцати вышедших в финал одесской Ришельевской гимназии.
Я играл крайнего правого. Я загнал гол - один из шести, вбитых нами Одесской 4-й гимназии, также вышедшей в финал.
После матча меня качали выбежавшие на поле гимназисты разных гимназий. Как видно, моя игра понравилась зрителям. Я был в белом - белые трусы, белая майка. Также и бутсы были белые при черных с зеленым бубликом вокруг икры чулках.
Однако инспектор учебного округа Марданов, царской красоты армянин из воска и черной пакли, обратил внимание на то, что этот маленький футболист, то есть я, несколько бледен. Не вредно ли для его здоровья играть ему в футбол?
Через несколько дней в грелке на футбольной площадке меня выслушивал врач. Он сказал, что у меня невроз сердца и мне играть в футбол нельзя. Я сразу как бы почувствовал себя тяжело больным. Почувствовал, как бьется сердце, как ни с того ни с сего хочется сесть, посидеть.
Этот Марданов сыграл в моей жизни роковую роль, так как из-за него я почувствовал впервые, что есть невозможность, запрет.
Трудно себе представить, что все это было со мной. Как много было впереди - даже та сцена, когда... Мало ли какая сцена была впереди!
Мы возвращались уже среди сумерек. Цветы уже все казались белыми - и они были очень неподвижными, эти маленькие белые кресты, кресты сумерек.
Наши ноги в футбольных бутсах ступали по ним. Мы просто не видели их. Это теперь, вдруг оглянувшись, я увидел целый плащ цветов - белый упавший в траву рыцарский плащ.
Со спортивной площадки мы иногда возвращались не по Французскому бульвару, а через Ботанический сад. Это значило, что путь наш будет короче, но значило также, что путь будет полон опасностей. Ботанический сад, или, как назывался он среди мальчиков, - Ботаника, ничего общего с наукой ботаники не имел. Может быть, было когда-либо время, когда там росли и расцветали какие-либо цветы или деревья, посаженные во имя науки и знания, но этого времени никто из нас, гимназистов, разумеется, не помнил. Также не помнили об этом времени и взрослые. Лес? Нет, для леса это было слишком жидко, да и торчали в середине этого леса деревянные остатки балагана. Сад? Нет, для сада это было слишком голо, слишком песочно, пыльно. Пустырь с дико разросшимися деревьями? Пожалуй, так. Во всяком случае, это была глушь, и проходить через нее было страшно. Нам, гимназистам, страшно в особенности: там на гимназистов охотились. Кто? Мальчики, жители ближайших улиц или просто прятавшиеся там, уже отверженные, мальчики.
Одна из особенностей молодости - это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен - и не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально: "никогда не умрешь!" И это несмотря на свойственную молодости меланхолию, несмотря на мысли о самоубийстве...
Безусловно, я никогда не умру, думал я в молодости. Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это "пока пройдут годы" представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего с обложки фантастического романа, и там, в этой дали, люди уже давно бессмертны! Интересно, что бессмертие представлялось именно как результат какого-то открытия, изобретения. Какие-то большие машины, молнии тока шириной з дерево...
Странно, никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии.
В Одессе в те времена февраль, особенно конец его - о, это уже была весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-либо Большефонтанского берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море - синее и свежее, как глаз!
Фиалки продавались букетиками - пять, шесть цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо лилов, бархат времен пажей... Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде, - были холодными... Так в молодости начиналась весна. ...И вскоре вышел в свою неповторимую прогулку Эдуард Багрицкий.
Сестра, которая хотела показать себя в его глазах живой, умной, интересной (она и была такой), играя мыслями, словами, глазами, выразила ему недоверие в том смысле, что, по всей вероятности, он не бывал в каких-то особенных дальних и дивных странах - а просто обманывает, чтобы показаться более интересным... Он хохотал, что получалось у него обаятельно, поскольку он хохотал именно как победитель - как добрый, красивый и действительно бывалый мужчина - и не только подтверждал правду своих слов, а мало того, еще и обещал побывать в одной из дальних и дивных стран в самом недалеком будущем.
И вот через несколько дней он исчез. И вдруг приходит открытка с крытым желатином изображением порта в пальмовых листьях и пароходных трубах.
Открытка адресована сестре - девочке! - и на открытке на той, так сказать, стороне, где пишутся послания, послание ей же, сестре:
- Ричард был в Бомбее!
Что ж, открытка была действительно из Бомбея!
Я стою в толпе на булыжной мостовой и вместе со всеми слушаю несущееся из окна пение.
Поет артист, которого мы не видим. Где он? Никто в толпе этого не знает. Перед нами только труба, направленная на нас своим раскрашенным в золото и красное раструбом. Да, это труба, но я сказал бы. что передо мной нечто вроде огромного колокольчика; совершенно верно, труба эта похожа на сорванный в траве лилово-красный, чудовищно увеличенный и наклонно поставленный колокольчик.
Из него и раздается пение.
- Карузо! - сообщает появившийся в толпе чиновник со
сложенным зонтиком, который он держит под мышкой - чер
ный, чем-то напоминающий птичью ногу зонт. - Ария Каина.
Это Карузо.
Где же он, если это он, Карузо?
Труба не неподвижна. Нет, она не перестает пребывать в движении - но трудно понять это движение, трудно определить, трудно назвать. Она ходит, оставаясь на месте, - то подается вперед, то опять уходит.
Которые повыше видят нечто, что называют диском.
- Вот-вот, - говорит чиновник, - записывают на диск.
Голос артиста записывают на диск, и вот мы слышим.
В окне появляются хозяева граммофона - несколько взрослых и несколько детей. Они узнают в толпе чиновника, машут ему рукой, зовут его к себе. Он отвечает, что да, да, сейчас придет, и семенит к крыльцу. Переулок короткий, булыжный, между булыжником трава, чиновник поднимается на железное крыльцо тоже среди травы и рядом с водопроводной трубой, серый цинк которой покрыт белыми цинковыми звездами...
Классическую музыку я впервые узнал уже в зрелые годы. Понял ее, полюбил еще позже. Что же было музыкой до того? Знал и любил все же Шопена. В основном музыкой были известные концертные вальсы, опереточная музыка, марши, танго, танцы типа краковяк и все остальное, что играли в садах и на граммофонных пластинках.
В садах играли военные духовые оркестры. В детстве было даже не столько интересно слушать, сколько смотреть, как играют - как движется оркестр, как дирижирует молодой щуплый капельмейстер. Они играли в так называемых ротондах - в деревянных полукруглых помещениях, с одной стороны открытых - как бы в половине барабана. Это называлось также и раковиной. Там на досках пола, под ножками пюпитров, валялись опавшие листья, гравий, всякий сор, занесенный туда с дорожек сада мальчишками, - и это было образом запустения, конца чего-то... чего? Пока, в те годы, всего лишь каникулы.
Я приехал давать свой очередной урок маленькому ученику на дачу, где он жил с родителями.
Они жили на Куяльницком лимане.
Жаркий день, желтый жаркий день в дынных корках, в чаде жарящейся рыбы, криках кухарок и разносчиков, взвизгиваний ножей... Подумать только, и среди этого полного равнодушия к чему бы то ни было умственному, среди этой атмосферы чувственного благополучия, начинавшегося от обсуждения того, как хорошо варится кукуруза, и кончавшегося лежанием кверху животом дорогой кошки, - мне, маленькому гимназисту, приходилось давать урок по геометрии и по придаточным предложениям, причем такому же захваченному чувственностью мальчику...
Как было приятно в эпоху первой любви, выйдя на поляну перед дачей, увидеть вдруг девочку в другом платье - не в том платье, в котором привык ее видеть, а в другом, новом, как видно, только что сшитом. Пожалуй, оно было синее, отделанное тесьмой. Это появление возлюбленной в новом платье усиливало любовь, чуть не до сердцебиения, чуть не до стона. Странно было даже приближаться к ней, и она, тоже восхищенная собой, оставалась стоять недалеко от черного дерева, с отчетливо видимыми издали локонами. Между нами было пространство осенней, в кочках земли, на которой ни с того ни с сего вдруг начинали кувыркаться листья.
Иногда думаешь, как коротка жизнь. Это неправда, я живу долго. Как, например, далек тот день, когда я, выйдя на бульвар, шел вдоль ребра его, нависшего над портом, вглядываясь в серое море, в панораму порта и ища следов того, что произошло этой ночью. Этой ночью турецкий броненосец ворвался в порт и, открыв стрельбу, потопил нашу канонерскую лодку, а также повредил французское коммерческое судно. 1915 год? Вот как давно это было, первая империалистическая война! Для нынешних моих современников, и не слишком уж молодых - да просто для зрелых людей нашей эпохи! - то, что я вспоминаю сейчас, как свидетель, представляется, по всей вероятности, таким же отдаленным прошлым, как мне представлялись, скажем, рассказы моих старших современников о взятии Шипки!
Снаряд, попавший во французское судно, пробил каюту горничной. Говорили, что вместе с этой горничной был убит и повар. Нам, гимназистам, это известие дало повод для игривых разговоров. В те же дни, в такое же серое утро, я видел, как хоронили эту горничную и этого повара. Короткая, но густая процессия поднималась по Польскому спуску. Помню матросов с помпонами на беретках и великолепного капитана в синей двухэтажной пелерине и каскетке с блестящим козырьком. Шел также священник в кружевном одеянии.
Я смотрел с моста, и два узких гроба казались мне лежащими на процессии - два узких серебряных гроба, похожих на двух жуков, сложивших длинные крылья.
Я остановился смотреть на шествие по пути в гимназию. Надо было торопиться, но я все смотрел вслед синей спине капитана, вслед двум гробам - неизвестной мне горничной-француженки и повара. Утро было серое, впереди был гимназический, полный тревоги день - впереди была жизнь, полная дней жизнь...
Ученик Шнайдерман сказал, что тот, кто подписывается на военный заем, способствует кровопролитию. Худой, рыжий, смешной, любивший мои стихи Шнайдерман...
Коля Лукин донес на Шнайдермана. Нет, сам он не считал это доносом. Это был его долг - Коля Лукин был из монархической семьи, сам поклонник царя. Шнайдермана, помню, исключили чуть ли не на другой день. А до конца гимназии оставалось только полгода. Так восемь лет грозили Шнайдер-ману не быть засчитанными ни во что. Сейчас, когда я вызываю из прошлого этот образ, юноша, слышу, опять говорит мне, как говорил тогда:
- Помни, стихи должны быть с содержанием. Ты хорошо пишешь, но настоящие стихи - это о борьбе.
Да, да, он был революционером, этот юноша. Мы этого не знали. Знали те, кто его исключил перед самым концом гимназии, когда были отданы на учение уже восемь лет.
Тут и пропадает след Шнайдермана. Как он вышел в двери класса в последний раз, не помню. Прощался ли с нами, тоже не помню. Потом отыскивается его след. Он комиссар, коммунист на Дону! Так вот почему писать стихи с содержанием! Так вот почему он был против кровопролития!
А дальше его след кровав. Его расстрелял один из атаманов, как еврея и коммуниста.
Что до директора, исключившего Шнайдермана, то после революции был слух, он стал пастухом. Латинист, он удалился под сень акаций; говорят именно так: читал, пася стадо, римских классиков. Его тоже расстреляли. Все же нашли, и он понес кару. Что с Лукиным? Этого я не знаю. Кажется, он досрочно поступил, как многие в тот год, в военное училище. Вероятно, сложил голову за царя - за тот портрет, который висел в кабинете директора: маленький ангелок в мерлушковой папахе стоит на мураве и рядом с ним барашек, тоже мерлушковый, белый-белый.
Я многое видел в своей жизни. Например, однажды в степи под Одессой мне удалось застигнуть одно из редких для нашего земного наблюдения зрелищ - так называемый зеленый луч. Как известно, за этим зрелищем гонялись по земному шару мечтатели - по крайней мере воспетые в романах. Оно редко по той причине, что для его возникновения необходимо соединение многих условий: данного состояния атмосферы, данного качества погоды, данного угла наблюдения...
Я был на так называемых "кондициях" в довольно большом имении немца-колониста. Кондиции - это то же, что репетиторство. Но в летний сезон, когда репетитор еще и живет там, где учит, это - "кондиции".
Я шел из имения Луца в Доманевку. Дорога рассекала степь от моих стоп, так сказать, до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски - колокольчики голубые, розовые, желтые, какие-то вытянутые кверху лиловые колбаски, целые горсти синих крохотных венчиков, ромашки с желтыми своими подушками, на которых, казалось, спят невидимые больные какого-то иного мира. Все это жгуче благоухало почти ничем - воздухом? Далью? Небом?
В воздухе стояли и даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, живая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Ее хвост трещал на моем плече, скрипел - скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть глаза, вызывавшие неодолимое желание разодрать их, глаза-капли, возможно, видевшие и меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной - казалось, стоя в воздухе, как бы даже упираясь лапками, чтобы не лететь.
Я шел в Доманевку купить карамели.
Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое голубое пространство. Сперва шли по направлению к морю только мы двое - я и Катаев; поскольку мы именно шли, куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг... И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.
- Познакомься, Юра, - сказал Катаев и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил: - Это тот поэт, о котором я вам говорил.
Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это.
Тот протянул мне руку. Я подумал, что это старик - злой старик; рука, подумал я, жесткая, злая. На нем была шапочка, каких я никогда не видел, - из серого коленкора. Да, он был также и с тростью! Он стоял спиной к морю, к свету и был поэтому хоть и среди голубизны, но силуэтом, - и поскольку силуэт, то бородка, видимая мне в профиль, была такая же, как и ручка трости: твердая, загнутая, злая.
Этот старик еще прожил много лет - целую жизнь! Написал много прекрасных страниц, получил из рук короля награду за то, что писал. И недавно этот старик умер - Иван Бунин.
Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну что ж, это не плохая фантазия! А что там, на маяке? Какой формы там жилище? Что это - комната, несколько комнат, маленькая казарма? Ничего нельзя себе представить! Я не был на маяке, я только видел, как он горит. Мало сказать видел - вся молодость прошла под вращение этого гигантского то рубина, то изумруда. Он зажигался вдали - сравнительно не так уж далеко: километрах в двух, что при чистоте морского простора - ничто! - зажигался в темноте морской южной ночи, как бы вдруг появляясь из-за угла, как бы вдруг заглядывая именно на вас. Боже мой, сколько красок можно подыскать здесь, описывая такое чудо, как маяк - такую древнюю штуку, такого давнего гостя поэзии, истории, философии...
Теперь маяки, кажется, светятся неоном.
Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские, береговые размышления - это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Он говорил мне, что по происхождению он цыган. Вряд ли. Очень талантливый человек.
Вдали оранжево-топазовая.
Величественная река
Колышется, в зеркале показывая.
Расплавленные облака.
Это не слишком хороший отрывок (дань Северянину, которому нельзя подражать) - да я еще и наврал что-то. У него прелестные именно морские стихотворения - о каком-то капитанском домике в Керчи и т. п. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное, - поэзия! Есть у него неприятные странности, за которые держится. Например, поклонение Брюсову. Впрочем, это его дело.
Я помню, Георгий Аркадьевич, как вы стояли в углу сцены, над рампой, в Одессе, в Сибиряковском театре, в черном сюртуке, с черными кудрями, страстный, но негромкий - как показалось мне, небольшой, о, чудесная фигурка, Георгий Аркадьевич! - да, да, странно, непохоже на других красивый, вот именно - черный, с медовым тяжелым блеском глаз - и читали стихи. Помню только строчку:
И в глуши исповедален...
Нет, наверно, не так! Что это значит - в глуши исповедален?
Это было в Одессе, в ясный весенний вечер, когда мне было восемнадцать лет - когда выступал Северянин - маг, само стихотворение, сама строфа. Верно, рифмы прямо-таки появлялись на нем, как появляются на человеке жуки, или ветки, или блики!
Правда, я был тогда очень молод; правда, это было весной в Одессе... Эти два обстоятельства, разумеется, немые способствовали усилению прелести того, что разыгралось передо мной. Заря жизни, одесская весна - с сиренью, с тюльпанами - и вдруг на фоне этого вы попадаете на поэзо-концерт Игоря Северянина - поэта, которого вы уже давно любите, необыкновенного Северянина, - написавшего о редко встречающемся на берегу моря городском экипаже.
По всей вероятности, я еще сохранял тогда связь с Сибиряко-выми, у которых несколько раньше был репетитором. Только этими сохранившимися связями я могу сейчас объяснить то, что я сидел в ложе на этом поэзо-концерте. Ложа Сибирякова. Ясный вечер, которого я не помню - но, безусловно, ясный вечер, потому что, во-первых, весна, а во-вторых, мне, когда я вспоминаю об этом концерте, все кажется, что он происходил днем...
Да, да, ясный вечер в мае, в Одессе...
Я шел навстречу потоку, так что несколько раз я отскакивал от бегущих на меня.
Был голубой одесский день с кое-каким золотом - деревьев? Куполов?
Поток движется на меня - по тротуару и по мостовой, и главное в потоке - автомобиль, в котором стоит во весь рост довольно высокая фигура, но облезлая фигура, перетянутая через туловище по диагонали красной лентой с огромными на ней белыми облупившимися, как стена кухни, буквами. Еще не вижу, что написано, еще не вижу, еще не вижу - и вот вижу! Министр-социалист!
Это прибытие в Одессу Керенского.
Люди бегут за ним, рядом, впереди. Он стоит, засунув руку за борт френча. Она в перчатке. Правда, правда, вспоминаю - в перчатке! Это потому, говорили, что от рукопожатий у него что-то случилось с рукой.
- Ура! Ура!
Он стоит со своей лентой и перчаткой неподвижно в автомобиле. Лицо у него немного собачье, облезлое, с нависшими по обеим сторонам губ колбасами щек.
Я записал в охотничьем журнале: "Четырнадцатого июля - ничего".
А 14 июля пала Бастилия.
Это из сонета Максимилиана Волошина. Я познакомился с ним в Одессе. В Одессе были немцы (нет, память изменяет мне), французы, сменившие немцев, потерпевших поражение и занятых уже собственной революцией. Еще некоторое время - и в Одессу приедет Григорьев. Максимилиан Волошин бежит в Крым.
Он отнесся к нам, молодым поэтам, снисходительно. (Некоторые из нас стоили признания мастера.) Он выступил в литературном кружке со стихами, которые в общих чертах я помню до сих пор.
В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Ты лежал, и мать, в сенях замешкав,
Голосила в страхе над тобой.
Кажется, так. О Димитрии.
Волошин был упитанного сложения, с большой рыжеволосой головой - не то напоминавшей чалму, не то нечто для сидения, словом, вызывавшей какие-то турецкие ассоциации. Однако он был в пенсне. Читал сн стихи превосходно, это была столичная штучка. Из Одессы уходят оккупанты... Это, верно, даже не французы, это греки с мулами, которых они кормят горохом. Это маленькие черномазые солдаты в зелено-желтом, травянистом хаки, в пилотках, которые, кстати, в нашей армии еще не носили. Осень? Весна? Лето? Зима? Не знаю. Все в тумане прошлого. Однако фигура поэта- символиста возвышается в этом тумане довольно рельефно. С рыжей кудлатой бородой и кудлатой же головой. Кому он сочувствовал? Чего он хотел для родины? Тогда он не отвечал на эти вопросы. Он ответил позже, когда, умирая в Советском Крыму, завещал поставить вместо надгробия скамью на двоих - небольшую скамью, на которой могли бы объясняться в любви юноша и девушка.
По Екатерининской улице навстречу мне двигалось странное шествие. Первым я увидел осла, его большую голову. Он был в упряжке и вез некую фуру, на козлах которой сидел зуав и рядом с ним грек в травянистого цвета военной своей одежде. Фура была как бы сплетенной из прутьев, на которые было натянуто что-то разодравшееся в нескольких местах и потому пропускавшее внутрь фуры солнечный свет.
Вокруг фуры маячили еще несколько солдат в разных пришедших в негодность одеяниях, но я не приглядывался к ним. Трудно было остановить внимание на чем-либо после того, как я увидел, что свет, проникающий сквозь рубища фуры, падает на покойника. В фуре стоял гроб - ногами по движению, то есть в спину вознице, - и в гробу лежал мертвый солдат, с лицом как бы даже зажженным упавшим на него лучом. Солдат неизвестно чьей короны... Я не знаю, куда направлялось шествие, и не знаю, что соединило, по крайней мере, полдюжины национальностей вокруг лежавшего в гробу...
В город вступили части под командованием атамана Григорьева. Хоть он и назывался атаманом, поскольку раньше предводительствовал просто некоей бандой, он теперь был военачальником красных, организованным, подчинившимся приказам из центра. Он говорил о себе, что он выбил стул из-под Пуанкаре, имея на то основание в том смысле, что уход французских войск из Одессы под натиском его отрядов можно было считать концом интервенции, признание которого привело к смене во Франции министерства.
Самого Григорьева я не видел. Я видел его отряды, отчего у меня осталось впечатление огромных красных не то бантов, не то лоскутов, прикрепленных к серым папахам, желтых гробов, в которых несли по Дерибасовской убитых солдат этих отрядов, грузовиков, в которых, сверкая геликонами, стояли и играли военные оркестры, и еще чего-то, что я не совсем понимал, - может быть, света милосердия, которым иногда сияли лица этих солдат.
Семья наша материально разрушилась, отец не служил, потому что той службы, которую он исполнял прежде, не было, не играл в карты, потому что клубы уже давно существовали лихорадочно, то закрываясь, то открываясь...
Я не знал, что я переживаю инкубационный период болезни, и не понимал, что же происходит со мной. Почему меня вдруг начинает так знобить? Почему вдруг, охваченный внезапным изнеможением, я ищу, где бы сесть - немедленно сесть, иначе я упаду? Я прихожу домой, и все, кажется, хорошо - пьют чай, едят колбасу, хлеб с маслом, самовар кипит, на чайнике знакомая гарусная покрышка... Почему же я так раздирающе грущу? Боже мой, и не знаю, о чем грущу! Беру кусок колбасы, кладу на хлеб.
- Спасибо, мама!
Ставлю перед собой чай в стакане на блюдце и вдруг чувствую, что вижу все через розовый свет, что он клубится передо мной, что уже осталось только одно, что я еще буду в состоянии сделать, только одно оставшееся мне осуществление -
лечь!
И я лежу, улыбаясь от ощущения благополучия, которого нет. Подумать только, я даже улыбаюсь врачу, который говорит, что если бы я походил еще день - другой, то умер бы от прободения кишок. Я улыбаюсь врачу, который говорит, что у меня тиф.
- Облако, - говорит зрач. - Тиф это облако. Тифос -
по-гречески облако. Вы в облаке.
Почему он со мной так говорил? Это был очень модный в Одессе, очень хороший, знаменитый, дорогой врач. Надо мной сидела, как мне казалось, туша, лезшая ко мне в тело - в печень, в живот - руками. Круглолицая туша, которую я, поэт, легко сравниваю с Азефом. Туша с жирным, блестящим и от здоровья и чревоугодничества, как бы не бритым, не успевшим побриться лицом.
- Тифос. Облако. Вы в облаке.
Он говорил со мной так потому, что ненавидел меня за то, что я поэт.
Уже почти не о чем писать. Я, конечно, мог бы писать романы с действующими лицами, как писал Лев Толстой или Гончаров, который, кстати говоря, прорывался уже в неписание, но мне делать это было бы уныло.
Время тлеть.
Я видел, как умерла моя сестра - самый момент смерти. Лицо откинулось на подушке и мгновенно стало темнее, как если бы кто-то положил на него ладонь. Она ныла перед смертью, в ночь, и нам казалось, что она поет. Еще раньше она спросила нас, принесли ли гроб. Еще раньше был консилиум, на котором вполголоса разговаривали доктора и когда можно было понять, что речь идет о прободении кишок.
Когда она умерла - через секунду - выбежала мать и, топая ногой о пол, кричала:
- Умирает! Умирает!
Как будто кто-то был виноват в этом, как будто можно было это остановить...
Потом она лежала в желтом, блестящем, как может блестеть паркет, гробу, протягиваясь ногами ко мне, головой от окна, со сложенными под грудью руками - маленьким изделием из воска, пронизанного солнцем, даже как бы курящимся от солнечного луча, застрявшего в этом маленьком кораблике ее двух сплетенных уже не ею, а вмешавшимися людьми рук.
Ксендз полупел по-латыни, напирая на слово "мизерере", которое я, латинист, услышал впервые при таких обстоятельствах.
Потом гроб несли в дверь, на площадку, по лестнице и так далее. На кладбище я не был, так как еще и сам не выходил из дому после тифа, от которого умерла и она. Ко мне, как мне помнится, пришел Эдуард Багрицкий, и был полуморозный день с розовыми окнами... И мы читали стихи.
Это называлось кблево. На небольшой тарелке было наложено нечто вроде коричневой каши, посыпанной сахарной пудрой. Это было принадлежностью похорон.
- Колево, - слышалось то с одной, то с другой стороны.
Очень было важно, имеется ли колево, где оно, когда его дадут
есть. Тарелка появлялась где-то в гуще толпы такого же цвета
как церковь над толпой, как земля под ней.
Опытный глаз видел среди коричневых кусочков цукаты. Словом, это было то, что в центральной полосе называется кутья.
Я как-то попробовал один раз этого колева. С тех пор помню сладкий, но не приторный, благородный его вкус. Ложечка задержалась в воздухе, я раскрыл губы, ложечка клюнула, и сладкий песок ссыпался мне на язык. Колево давалось всем. Очевидно, рассчитывала на его остатки какая-нибудь старушка, особенно поработавшая для похорон.
Я не допускал мысли о собственной смерти. Казалось невозможным, что зашита семьи - мамы, бабушки, самого вечера вокруг стола - окажется бессильной перед этим вторжением. Первая смерть, которую я увидел вблизи, была смерть бандита, упавшего под пулями на улице. Это была медленная, сильная, шумная смерть, собственно - умирание. Этот человек лежал, раскинув руки, на спине, как сечевик у Гоголя, невдалеке от ювелирного магазина, который он пытался ограбить. Он был в синем. Грудь его вздымалась горой. Я так и не увидел конца. Ярко светило солнце, шла, толпилась толпа. Кончалась его единственная, один раз данная ему жизнь, на миллионы, на сотни миллионов, на миллионы миллионов лет, жизнь. Я помню эту вздымающуюся гору груди, этот целый мир, эту целую самостоятельную гигантскую вселенную - может быть, больше нашей, больше всех миллионов - уже потому, может быть, больше, что она отдельная, самостоятельная.
Кто же я? Кто? Этот вопрос надо разрешить, ответить на него. Какое мое миросозерцание? В юности я был дикарь. Когда после смерти моей сестры понадобилось в определенный, еще недалекий от дня смерти срок отслужить в костеле панихиду, я отправился в костел к ксендзу, чтобы вести с ним соответствующие переговоры. Ксендз, показалось мне, без должной симпатии относился к неимущим. Я шумно, пожалуй, даже ударяя кулаком по столу, выразил свое возмущение. Ксендз, сперва пришедший в ужас, отвечал мне затем довольно-таки хулигански. Так мы разошлись - причем, уходя, я пригрозил ксендзу ни больше ни меньше как расстрелом.
Потом все же звенели колокольчики погребальной мессы и ксендз печально, надтреснуто произносил возгласы скорби и смирения...
Впрочем, и я тогда был верующим. Когда бабушка, ожидалось, должна была умереть от воспаления легких, я падал на колени и просил бога не допустить этого. Была весна, ранняя весна, близилась пасха, уже поздно темнело, и еще при голубоватом дне зажигались не слишком яркие огни той эпохи.
Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе - знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор Публичной библиотеки. Это был высокий старик, с белой длинной бородой и губами, складывавшимися при разговоре так, что видно было его происхождение: француз.
Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью "Альбатроса", и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски.
Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки александрийского стиха.
Иногда порт заполнялся серыми военными судами. Большой броненосец, и вокруг него суета мелкоты, вплоть до катеров... Тогда, в эти дни пребывания экскадры в Одессе, по городу, покоряя девушек, разгуливали военные матросы (обыкновенных матросов в Одессе и без того было много - а это были именно военные матросы, в погончиках на белых плечах голландок).
В ту эпоху и в армии и во флоте носили усы. Матросы особенно щеголяли этим украшением - своими маленькими, лакированно-блестящими, в большинстве случаев черными (поскольку флот набирался на Украине) усиками. Лица у них были смугло-румяные, груди красиво выпуклые, усики шелковистые...
Иногда напрашивается обобщение, что именно матросы на первых порах были физической силой революции.
Я знал интеллигентного матроса, который, говоря со мной о коммунизме, привлек в качестве метафоры синюю птицу счастья из Метерлинка, - Анатолия Железнякова, того самого матроса, которому был поручен разгон (так сказать, техническое его исполнение) Учредительного собрания. Он, как известно, подошел вдруг к председательствовавшему Чернову и сказал:
- Пора вам разойтись. Караул хочет спать.
Караул был из матросов.
Он был очень красивый человек, Железняков, светлой масти, утонченный, я бы сказал - в полете. Он был убит на Дону в битве с Деникиным - убит в то время, когда, высунувшись из бойницы бронепоезда, стрелял из двух револьверов одновременно. Так он и повис на раме этой амбразуры, головой вниз и вытянув руки по борту бронепоезда, руки с выпадающими из них револьверами. Это мне рассказывал очевидец.
Сперва я только смотрел на эти несколько окон, за которыми виднелся хлеб на столах, - смотрел издали, с другой стороны улицы. Потом я решил пойти туда, в студенческую столовую. Три-четыре ступеньки, передняя, светлая от падающего из самой столовой света, полотенце, извилистое от частого употребления, висящее на гвозде.
Больше всего мне хотелось поесть этого нарезанного хлеба, торчащего из мисок. Я сел перед одной из мисок. В листке меню были карандашом написаны названия блюд и цены. Я решил, что съем перловый суп и котлеты.
Он появился на пороге в бушлате, полы которого качнулись и вновь качнулись... И вновь качнулись, пока он ставил винтовку прикладом у ног - не зная, как ее поставить, где, - не зная, как ставят винтовку в таких случаях: в случаях, когда входят в дом за излишками.
- Излишки есть? - спросил он строго, но он был украинец, и тот воздух, который вылетает из уст человека вместе со звуками, был мирным.
Тут же он понял, что излишков нет. Ему нужны были не те излишки. Он думал, что перед ним откроется богатая квартира, - нет, не то: перед ним было бедное нагромождение мебели.
На батарею приезжал ко мне Стадниченко. Ах, какой он был красивый парнишка! Тогда сильно одобрялись темные сросшиеся брови, он обладал именно такими. С темными сросшимися бровями, с широкой, не слишком выпуклой, но сильной грудью, с румяными губами, с горящим взглядом юноши...
...Кроме того, я просто любил его, как товарища. В гимназические годы мы долгое время сидели с ним на одной парте. Сейчас, когда я служу на батарее, мы не слишком еще далеко отошли от тех лет. То и дело мы рассказываем друг другу о встречах с преподавателями и товарищами по классу.
- Видел Фудю! - хохочет Стадниченко. - Он в сандальях!
- В сандальях! - хохочу я. - Фудя в сандальях!
Фудя - это инспектор нашей гимназии, придурковатый чиновник, кривогубой речи которого умела подражать вся гимназия.
Я служу на батарее среди матросов. Великолепные матросы, революционно настроенные, разговаривающие о Ленине, - самые настоящие матросы революции, которых описывал в своем "Хождении" Алексей Толстой... Я до сих пор помню имена некоторых, их лица, их голоса. Был матрос по фамилии Школьник, украинец, с тонкими, не тугими усами еще царской армии, в бушлате, в бескозырке с георгиевскими лентами, красавец, самолюбивый, как все матросы, - иногда до слез самолюбивый, и вместе с тем буйный. Помню Недвецкого, которого звали Юрий - Юрий Недвецкий, - кажется мне, поляк, во всяком случае по-польски элегантный.
Я обедал у Даши, прислуги Стоговых. За восемь, как мне помнится, рублей она давала мне первое и второе - две тарелки вкусной, жирной, с чесноком и красным перцем еды.
Обедал я не у Даши на кухне, а рядом у Мелисарато, моих друзей, у них в столовой, когда они уже пообедали. Я не знаю, откуда и почему пошло это - почему вдруг, имея дом, родителей, я отъединился таким странным образом... Я мог ведь отдавать эти восемь рублей домой! И как, с другой стороны, мирились с тем Мелисарато, что я ем у них в столовой не их обед? Не с ними? Все в тумане.
Собственно, не в тумане. Наоборот, очень ярко существуют для меня эти три часа дня, когда я поднимаюсь по железной, довольно изящной лестнице и с некоторой ступеньки, поднявшись лбом до уровня окна, кричу. Нет, просто произношу:
- Даша!
- Иди, - отвечает женский голос.
Потом вдвигается в комнату тарелка с зеленым содержимым и еще тарелка с двумя кусками душистого хлеба. Я уже у Мелисарато. Они пообедали только недавно, еще не убрали крошек. Еще, возможно, стоит нечто беленькое с горчицей - беленькое, испачканное в горчицу, как в свежий кал, что не имеет слишком аппетитного вида. Мелисарато - греки, южный народ, неопрятный. С каким аппетитом я ем! Как это все вкусно. Это тоже все греческое, южное. Мощный, как тело быка, лежит зеленый перец, испеченный целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, похищающий Европу.
- Вкусно? - спрашивает, появляясь, Даша.
- Да, да, очень, - отвечаю я, уже и в те годы страдая от учтивости.
Дело было лунной ночью, это я помню. В ту эпоху, между прочим, как-то заметней было, что ночь именно лунная. Вернее, в нашу эпоху по сравнению с той, лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны - не сияющий, плоский, белый и, уж во всяком случае, не колдовской. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены - много лет не видел силуэта кошки в лунном свете! Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал! А лунный свет на пороге сеней! А лунный свет в садике! А город - весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами - в лунном свете! Куда это все исчезло! Мне скажут, поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город! Нет, и там этого нет! И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая, почти потерявшая для нас, людей, свою ценность луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете, как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо - та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами.
Так вот лунной ночью шел я с молодым человеком по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатей, губастей, весь громче и с зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь.
Как известно, Багрицкий начинал в Одессе. Я был моложе его - не столько годами, сколько, скажем, тем, что его стихи уже много раз печатались, я напечатал одно-два... Однако он полюбил меня, и мы дружили. Теперь, кстати говоря, я с особенным чувством останавливаюсь на том обстоятельстве, что он меня полюбил - ведь вот увидел все же что-то такое в начинающем.
- У, Юрка молодец! - говорил он другим.
А что за молодец? Ничего во мне не было от молодца. Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо-изысканно... Но смотрите, все же увидел что-то!
Я ходил с Багрицким по городу. Он, конечно, главенствовал во всех случаях - и когда оценивалось то или иное стихотворение, и когда решалось, куда пойти, и когда стоял вопрос о примирении с кем-либо или о ссоре.
Однажды мы остановились перед подошедшей к нам группок поэтов, почти всей группой одесских поэтов, которые тоже ходили по городу. Город был южный, и по нему приятно было ходить. Город был южный, мы были молодые, была весна, и мы ходили по городу. Итак, к Багрицкому (я не в счет; именно - к Багрицкому) подошла почти вся группа одесских поэтов. Представьте себе пустоту площади с виднеющимися кое-где желтыми язычками тюльпанов, и в этой пустоте - вернее, на ее фоне, имея позади себя на некотором расстоянии развевающееся пламя тюльпанов, - стоит человек пять молодых людей и девушек. Они стоят во весь рост, узкие, красивые - причем лица девушек до половины затенены шляпами, и в этой тени светятся глаза". Представьте себе это и еще подумайте о том, что эти молодые люди и девушки пишут великолепные стихи. Было чему запомниться на всю жизнь? Было чему!
Молодежь, присутствующая на этом вечере, может сказать мне, что я, как это всегда бывает с вспоминающими молодость, преувеличиваю... Почему это великолепные стихи? Это вам теперь так кажется, что великолепные... Нет, не кажется. Именно великолепные! Потому что не будь их стихи великолепными - то и не было бы этого вечера.
— Сегодня надо быть в университете, - говорит Багрицкий.
— Да, да, приглашали, - вспоминают все. - В университете, да.
Можно предположить, что имелся в виду какой-то литературный вечер в университете... Нет, студенты пригласили нас побывать у них днем, между прочим, просто в одной из аудиторий почитать им стихи, поговорить с ними.
И вот мы в университетской аудитории. Это аудитория из небольших, она набита битком, силуэты студентов видны даже наверху, у голубых окон. Распоряжается профессор, высокий, черный, кривой на один глаз, похожий на турка, - один из известных одесских профессоров-филологов. Я не помню подробностей, не помню, кто из нас имел успех, кто не имел успеха, однако мне запомнилось не то чтобы презрительное, но какое-то надменное выражение лица профессора. Он, привыкший говорить со студентами о Мильтоне, Гомере, Данте, Байроне, вынужден был в эти минуты видеть перед собой не более как одесских мальчиков - просто одесситов, которые, видите ли, тоже взялись за писание стихов. Иногда мне казалось, что он и самих стихов не слушает, а все переваривает это обстоятельство, что вот, мол, вокруг каких-то молодых одесситов вьются стихи...
Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он и не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор - необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов: пойди оцени такое явление спокойно, пойди не восстань против него! И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции - с матросней, с кавалеристами в буденовках, с чекистами. Как бы там ни было, он восставал против нас и - что, безусловно, бросалось в глаза - оберегал своих студентов от наших чар.
- Байрон, - то и дело слышалось из его уст, - Байрон, когда он...
И следовало что-нибудь о Байроне против нас.
- Непревзойденный Данте...
И что-нибудь против нас о Данте.
- Сонеты Петрарки...
- Сонеты Петрарки? - переспросил Багрицкий. - А хотите, я напишу сонет сразу, начисто?
Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой... Его привела в раздражение вышеуказанная надменность профессора, разозлила снобистская манера, с которой он произнес "Петрарки" с растягиванием звука "а".
- Да, да, - кивал поэт своей лохматой головой, - вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки.
- Ну, ну, хорошо, - сказал профессор, - вы как петушок, который...
- Какой там петушок! - взорвался Багрицкий. - Он меня похлопывает по плечу!
Это было невежливо по отношению к известному профессору, но в ту эпоху великой переоценки ценностей, кто там следил за тем, что вежливо, а что невежливо.
- Без помарки! Сонет в пять минут без помарки!
- Ах, даже в пять минут? - засмеялся профессор.
- В пять минут! Сейчас я объясню им, что такое сонет.
Стоя лицом к студентам, Багрицкий - уже с мелком в руке - повел объяснение. Объясним и мы нашим студентам, то такое сонет. Сонет - это стихотворение, написанное с соблюдением особой, довольно трудной формы. Оно состоит из двух четверостишии и двух трехстиший - всего четырнадцать строк. Рифмующиеся звуки первого четверостишия должны повториться и во втором. В трехстишиях рифмы хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Дело даже не в рифмах, дело в содержании стихотворения: оно должно быть таким, чтобы соответствовать такому распределению мыслей: в первом четверостишии тезис, во втором антитезис, в двух трехстишиях вывод, положение, которое хочет доказать поэт.
- Понятно? - спросил Багрицкий.
- Попятно! - ответил амфитеатр.
- Теперь дайте мне тему.
- Камень, - сказал кто-то.
- Хорошо, камень!
И атлет пошел на арену.
- Может быть, какая-нибудь халтура и получится, - начал профессор, - но...
Тут же он замолчал, так как на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала праща. Профессор понял, что если поэт, которому дали тему для сонета "камень", начинает с пращи, то он понимает, что такое сонет, и если он владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитория и профессор впереди нее, с серьезностью сложивший на груди руки, и мы всей группой чуть в стороне от доски смотрели, как разгоралось это чудо интеллекта. Крошился мел, Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, пошел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал... Аудитория в это время читала - слово, другое, третье и целиком всю строчку, которую получала, как подарок, - под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета.
- Тише! - восклицал профессор, поднимая руку. - Тише!
Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в пять минут. На доске за белыми осыпающимися буквами, маячил образ героя с пращой, образ битвы, образ надгробного камня.
Через несколько дней произошло то, что профессор усомнился, так сказать, в правильности проделанного Багрицким эксперимента.
- Это заранее было подготовлено, - сказал он, - кто-то выкрикнул из аудитории заранее придуманную вами тему, и вы...
- Ну, хорошо, - как сейчас слышу глухой голос Багрицкого, - давайте сейчас, вот здесь, я напишу на другую тему. Ну на какую? Тогда был камень, давайте теперь пусть будет вода.
- Э! Хитрый, хитрый! Как раз противоположное! Это вы тоже придумали раньше! Вода, камень! Хитрый! У вас написан сонет на тему "вода"!
Багрицкий махнул рукой, и мы пошли.
- Багрицкий! - раздался издали зов, когда мы прошли шагов пять-десять.
- Багрицкий!
Это звал профессор.
- Багрицкий! И еще громче:
- Багрицкий, ну хоть оглянитесь! Багрицкий шел, не оглядываясь.
- Ну хоть оглянитесь, мой друг! Ну хоть оглянитесь! Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой.
- Простите меня! - кричал профессор. - Я верю вам!
Верю! Хоть и трудно поверить, но верю! Трудно поверить,
трудно! Непревзойденный Данте... Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МОСКВА
Я еще успел увидеть Сухареву башню, стоявшую на площади, главным признаком которой сейчас является больница имени Склифосовского.
Она, как я прочел теперь, была высотой в тридцать сажень, готической. Впечатления от ее высоты не помню. Во всяком случае, она была большая. Также не помню впечатления от готики. Она была красивая, сказочная, розовая, и по ее переходам, видным с площади, мог бы ходить кот в сапогах.
У ее подножия и дальше по площади в тот год, когда я приехал в Москву, в начале нэпа, шла частная торговля с лотков, с рук, пищевая и вещевая. Я запомнил хлеб с изюмом, большие, похожие на суздальские церкви, штуки хлеба.
Как исчезла эта башня, я тоже не помню. Вдруг освободилось просторное и скучное место. Даже нельзя было отыскать стеклышка, через которое также можно было бы увидеть прошлое с Петром Великим и Лейбницем у него в гостях.
Я видел Красные ворота, от которых теперь осталось название, присвоенное станции метро, выходящей на площадь, через которую очень трудно пройти.
Это была маленькая триумфальная арка мясного цвета с белыми гипсовыми фигурами, как мне кажется, в стиле барокко. Я ее помню в зимний день, буро-красную среди белизны плотного снега мостовых и крыш.
Кто вступал через эту арку? Войска Елизаветы Петровны? Этого я не видел, хотя эти сроки очень сжаты. Подумать только, я родился через семьдесят девять лет после смерти Наполеона! И после того, как я родился, имея позади себя не так уж далеко просто сказку, в каких-нибудь сорок лет развилась великая техника, изменившая мир до возможности определить его как новую планету.
Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни - это моя работа в "Гудке". Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей советской родины, и молодость, если можно так выразиться, нашей прессы, нашей журналистики...
Я поступил в "Гудок", кстати говоря, вовсе не на журналистскую работу. Я служил в так называвшемся тогда "информационном отделе", и работа моя состояла в том, что я вкладывал в конверты письма, написанные начальником отдела по разным адресам рабкоров. Я надписывал эти адреса... До этого у меня уже была некая судьба поэта, но так как эта судьба завязалась в Одессе, а сейчас я прибыл из Одессы, из провинции, в столицу, в Москву, то приходилось начинать все сначала. Вот поэтому я и пошел на такую работу, как заклеивание конвертов.
Однажды - я уж не помню, какие для этого были причины, - начальник отдела Иван Семенович Овчинников предложил мне написать стихотворный фельетон по письму рабкора. И я написал этот стихотворный фельетон... Что-то в нем было о Москве-реке, о каком-то капитане, речном пароходе и его капитане, который останавливал пароход не там, где ему следовало останавливаться по расписанию, а там, где жила возлюбленная капитана. Фельетон, как мне теперь кажется, был сделан неплохо.
- Как его подписать? - спросил я моих товарищей по отделу. - А? Как вы думаете? Надо подписать как-то интересно и чтобы в псевдониме был производственный оттенок... Помогите.
- Подпиши "Зубило", - сказал Григорьевич, один из сотрудников, толстый и симпатичный.
- Ну, что ж, - согласился я, - это неплохо. Подпишу "Зубило".
Когда я думаю сейчас, как это получилось, что вот пришел когда-то в "Гудок" никому не известный молодой человек, а вскоре его псевдоним "Зубило" стал известен чуть ли не каждому железнодорожнику, я нахожу только один ответ. Да, он, по-видимому, умел писать стихотворные фельетоны с забавными рифмами, припевками, шутками. Но дело было не только в этом.
Дело было прежде всего в том, что его фельетоны отражали жизнь, быт, труд железнодорожников. И огромную роль тут играли рабкоры. Это они доставляли ему материалы о бюрократах, расхитителях, разгильдяях и прочих "деятелях", мешавших восстановлению транспорта, его укреплению, росту, развитию. Вместе с рабкорами создавались эти фельетоны. Жалобе рабкора, его правильной мысли, наблюдению, пожеланию придавалась стихотворная форма - и на газетной полосе появились злободневные вещи, находившие живой отклик у читателя.
Сегодня сердечным словом хочется вспомнить рабкоров тех лет, очень часто безымянных, всех горячих и смелых людей, помогавших в те времена строительству транспорта.
Зубило был, по существу, коллективным явлением - созданием самих железнодорожников. Он общался со своими читателями и помощниками не только через письма. Зубило нередко бывал на линии среди сцепщиков, путеобходчиков, стрелочников. Это и была связь с жизнью, столь нужная и столь дорогая каждому журналисту, каждому писателю.
От его друзей и собеседников пахло гарью, машинным маслом, они держали в руках большие фонари, и от фонарей падала на снег решетчатая тень. Его обдавало паром от маневрировавших паровозов, оглушало лязгом металла. Бородачи в полушубках наперебой приглашали его к себе в гости, и он был счастлив! Он и до сих пор щеголяет иногда в беседе знанием железнодорожных терминов, до сих пор рассказывает о путешествиях в товарных составах, когда стоял на площадке, навстречу дула метель, а ему было тепло оттого, что тормозной кондуктор, обращаясь к нему, всякий раз говорил:
- Слышь, друг!..
Обстоятельства сложились так, что Зубило расстался с "Гудком". Жизнь транспорта он знает теперь только по газетным сведениям, фотографиям и кинолентам. Она стала удивительной, грандиозной, эта жизнь! Новая, совершенная техника, новый быт. И новые люди! На экране телевизора порой проносится такой состав, что всплескиваешь от восторга руками, порой громоздится такой мост, что, кажется, закружится голова от его масштабов. Светлые жилые дома, школы, столовые. И великолепные лица людей - в окошках локомотивов, у станков, у чертежных столов, в сиянии торжественных вечеров и в копоти будней. И делается радостно при мысли о том, что и ты был вместе со всеми в начале славного пути, что и ты шел вместе с теми, кто прокладывал дорогу к этим сегодняшним дням...
Вскоре после того как я приехал в Москву, однажды, осенним вечером, гуляя с тем же Катаевым по Москве и как раз поднимаясь по Рождественскому бульвару мимо монастыря, мы увидели, что навстречу нам идет - то есть в данном случае спускается мимо Рождественского монастыря - высокий, широко шагающий человек в полупальто, меховой шапке и с тростью.
- Маяковский, - прошептал Катаев. - Смотри, смотри, Маяковский!
Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас, этот человек, весь в желтом мутном свете тумана, - прошагал мимо фонаря, когда показалось, что у него не две, а с десяток ног, как всегда это кажется в тумане.
Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом и Катаев, но мы в дальнейшем все больше укреплялись в той уверенности, что, конечно же, это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как встретили на Рождественском бульваре Маяковского, как он шел сквозь туман и как от тумана казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда... Вот как хотелось нам быть в общении с этой фигурой, вот каков был общий интерес к этой фигуре!
Я все хочу вспомнить, когда же впервые остановилось мое внимание на этом имени... Нет, не тогда, когда в Одессу приехали футуристы. Я в ту эпоху еще не поэт, я еще живу интересами спорта, только начинающегося в нашей стране футбола. О, это было далеко от литературы - эти игры на зеленой спортивной площадке с узкими флажками на четырех ее углах, - не то что далеко, а даже враждебно! Мы были спортсменами, бегунами, прыгали с шестом, играли с шестом - какая там литература! Правда, я перевел тогда вступление к "Метаморфозам" Овидия и получил за это пять по-латыни... Но я еще глух к тому чуду, которое происходит рядом со мной, - к рождению метафоры Маяковского. Я еще не слышу, что сердце похоже на церковку и что можно пытаться выскочить из самого себя, опираясь о ребра.
Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом. Пушкин, вспомним, тоскует оттого, что декабристы хоть и заучивают его стихи, но не посвящают его в свои планы; автор "Божественной комедии" населяет ад своими политическими врагами; лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок.
Так же и Маяковский: и его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный путь политического трибуна. Вспомним: сперва это юноша в бархатной нерусской блузе, это художник с уклоном в левое искусство, пишущий стихи, явно внушенные французской живописью, - да просто с упоминанием ее мастеров:
Автомобиль подкрасил губы
У блеклой женщины Карьера...
И вспомним также, что в то же время - это юноша, задумавшийся о революции, это юноша в тюрьме, снятый на полицейских карточках в профиль и фас.
Предполагалась некогда экранизация "Отцов и детей". Ставить должен был В. Э. Мейерхольд. Я спросил его, кого он собирается пригласить на роль Базарова. Он ответил:
- Маяковского.
Я видел фильмы раннего, совершенно еще немого кино, в которых играет Маяковский. Это, собственно, не фильмы - от фильмов сохранилось только несколько обрывков - странно воспринимать их: трепещущие, бледные, как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого Маяковского - грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека.
Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко: то же понимание, что человек обречен на грусть и несчастия, и та же вооруженность против несчастий - поэзией.
Впервые я увидел Маяковского в Харькове, во время выступления его в театре с чтением недавно написанной им поэмы "150 000 000". Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум - по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены с какими-то балконами.
Не только я и Катаев - два молодых поэта - охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком, - люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически, - вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.
Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буффон... Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-то знали и о желтой кофте, и о литературных скандалах в прошлом!
Совсем иной человек появился из-за кулис!
Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза... Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке. Тотчас же стало понятным, что этот человек хоть и знаменитый поэт, но вышел сейчас не пожинать лавры, а вышел работать. Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве в Политехническом музее - и тогда образ именно работающего человека еще усилится: он будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава.
Необходимо, чтобы читатель понял характер славы Маяковского. И теперь есть у нас известные писатели, известные артисты, известные деятели в разных областях. Но слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое... Причем даже не о деятельности его - о нем самом!
- Я вчера видел Маяковского, и он...
- А знаете, Маяковский...
- Маяковский, говорят...
Вот что такое легендарная слава. Она была и у Есенина. По всей вероятности, если основываться на свидетельствах современников, легендарным в такой же степени был Шаляпин. И, уж безусловно, вся страна, да и весь мир смотрели вслед Максиму Горькому...
Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершалось нечто поражающее умы. Горький пресекал эту славу ("Что я вам - балерина?")... Что ж, и никто из тех, кого я назвал, не заботился о ней специально, она сама шла за ними. Кстати, и Маяковский никогда не кривлялся, не позировал. Я помню, как он однажды, увидев чье-то восторженно уставившееся на него лицо, сказал хоть и с юмором, но все же раздраженно:
- Смотрит на меня и что-то шепчет.
Появление его фигуры - на каком пороге она ни появилась бы - было сенсационным, несло радость, вызывало жгучий интерес, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре. Фигура - высотой до верхнего косяка двери, в шляпе, с тростью.
Я был молод в дни, когда познакомился с Маяковским, однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским.
Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию.
По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей, - вернее, той силой впечатления, которое он производил на них, - он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера, снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек.
Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.
Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского - малолитражный "шевроле".
- Куда, Владимир Владимирович? - спрашиваю я.
- К маме, - отвечает он охотно, с удовольствием.
Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно - иметь собственный автомобиль, и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике, к журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он "Бруклинский мост".
Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку, помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду именно вдоль ограды, он - так сказать, внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста, чтобы свободней себя чувствовать.
Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе, где бы мы ни пребывали вместе, неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука... Впрочем, можно и сразу взлететь.
— Владимир Владимирович, - спрашиваю я, - что вы сейчас пишете?
— Комедию с убийством.
Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит, между прочим, и убийство... Оказывается, что это еще и название комедии!
Я почти восклицаю:
- Браво!
- Там приглашают в гости по принципу "кого не будет", - говорит он.
- Как это?
- Приходите: Ивановых не будет... Приходите: Михаила
Петровича не будет... Любочки тоже не будет... Приходите...
Маяковский пил мало - главным образом, вино того сорта, которое теперь называется "Советским шампанским", а в те годы называлось шампанским "Абрау-Дюрсо".
Когда я однажды крикнул официанту:
- Шампанского!
Маяковский сказал:
- Ну, ну, что это вы! Просто скажите - "Абрау"!
Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крюшоном. Вот крюшон действительно пользовался его любовью - но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная - с апельсинными корками, яблоками, как в компоте. Может, и пил когда-либо в петербургский период, но это, так сказать, вне моего внимания.
Иногда он появлялся на веранде ресторана "Дома Герцена", летом, когда посетители сидели за столиками именно здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных, - по всей вероятности, это была герань...
Все уже издали видели его появившуюся в воротах, в конце сада, фигуру. Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак - синий, на его штаны - серые, на его трость - в руке, на его лицо - длинное и в его глаза - невыносимые!
Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая "Вечерку", вдруг кинул в мою сторону:
- Олеша пишет роман "Ницше"!
Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. Нет, знаю я, там напечатано не про роман "Ницше", а про роман "Нищий".
- Нищий, Владимир Владимирович, - поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной, - Роман "Нищий".
- Это все равно, - гениально отвечает он мне.
В самом деле, пишущий роман о нищем - причем надо учесть и эпоху, и мои способности как писателя - разве не начитался Ницше?
Это не то, что было вчера, - как говорят в таких случаях, - а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, на расстоянии лодки, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола.
Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.
Что же лучшее? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца?
Я столкнулся с этой метафорой, читая "Облако в штанах", совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти "учили" в школе и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле... Так вот какая она бывает, поэзия! "Выскочу, - кричит поэт, - выскочу, выскочу!"
Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя!
Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедистов, дуги мостов - может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское... Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат... Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним.
В его книгах, я бы сказал, раскрывается целый театр метафор. От булок, у которых "загибаются грифы скрипок", до моста, в котором он увидел "позвонок культуры".
Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.
- Пожалуйста, - сказал он с серьезной деловитостью. - Какую?
- Медикамент и медяками.
- Рубль.
- Почему же так мало? - удивился я.
- Потому что говорится "медикамент", с ударением на последнем слоге.
- Тогда зачем вы вообще покупаете?
- На всякий случай.
Я был влюблен в Маяковского. Когда он появлялся, меня охватывало смущение, я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне... Что касается моего внимания, то оно все время было на нем, я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова. Я уже как-то писал о том, что хоть я и был молод в то время, когда общался с Маяковским, но если мне предстояло любовное свидание и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание, - нет, решал я, лучше я увижу Маяковского...
Я был моложе Маяковского - основательно, лет на десять - и только начинал тогда, правда, хорошо начинал, ему нравилось. Знал ли он о моем восторженном отношении к нему? Во всяком случае, между нами порой среди той или иной собравшейся группы литераторов устанавливался бессловесный контакт, когда мне было неописуемо приятно чувствовать, что какая-нибудь реплика, не направленная прямо ко мне, все же, по существу, рассчитана на мое внимание, ждет моего согласия, моей оценки.
Он был очень строг со мной, как и со всеми, высказывал свое мнение о моих вещах, если они ему не нравились, не золотя пилюли:
- Читал ваш рассказ. Никогда подобной скуки не читал!
Но и хвалил. Как радостно было, когда он хвалил! О, я помню, мы сидим в артистическом кабачке, пьем вино и едим раков, и он за что-то хвалит меня, а я наверху счастья. Вокруг танцуют пары, и через плечо девушки смотрят именно на Маяковского, на знаменитость, и я горжусь, что сижу с ним, - сидим только вдвоем, только вдвоем, - горжусь и ликую... Едим раков. Когда снимаешь с них покрытие, то и дело укалываешься, и Маяковский говорит метрдотелю:
- Хоть бы вы им маникюр сделали, что ли.
Он очень любовно, очень по-товарищески относился к тем, кто был с ним заодно в литературных взглядах, вкусах. Свирепо нападавший на противников, он был прямо-таки нежен с единомышленниками, участлив к ним, внимателен, как врач. Неожиданность такого превращения - из яростного гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких ему по духу людей - чрезвычайно украшала его образ. Я тоже разделял его взгляды и вкусы. И помню, однажды играли в карты... Было много играющих, шумно, дымно. Я проигрался и сказал сидящему рядом, что проиграл также и деньги, предназначенные для отправления другу, лечившемуся в Крыму. Проигрался и Маяковский - был возбужден, в ажиотаже... Мог ли я подумать, что он услышал эту мою сказанную соседу фразу?
Утром раздался звонок.
- Это Маякозский говорит. Послали другу деньги? А то могу одолжить.
Недоброжелатели считали его грубым, а он был добрым и, как я сказал уже, даже нежным.
Удивительно, что этот поэт, начинавший как футурист, писавший, в общем, для немногих, после Октябрьской революции так страстно стал рваться к массам, к читательской толпе. Почти постоянно он был в разъездах, выступал в разных городах страны, на заводах, в университетах, в военных частях. Он не мог жить без этого общения с массами, оно радовало его, воодушевляло, молодило.
- Новое сейчас прочту им, новое, - помню, говорит он, расхаживая за кулисами Политехнического музея в Москве, набитого гудящей молодежью. - Студенты! Им надо прочесть новое! Волнуюсь!
И засучив рукава - об этом засучивании рукавов уже много вспоминали, но нельзя не вспомнить, - и засучив рукава, как будто собираясь работать, уже сняв пиджак и оставшись в своей "свежевымытой сорочке", шел к выходу на эстраду!
На эстраде он был великолепен. Уже не говоря о замечательных стихах и замечательном их чтении, само общение его с публикой захватывало. Блестящее остроумие реплик на наскоки тех или иных слушателей, неожиданные замечания, вызывавшие бурю аплодисментов, мощные высказывания о поэзии, вызывавшие тишину в аудитории, - все это было единственно, неповторимо, впечатляло в высшей степени, заставляло дивиться таланту этого человека, его интеллекту, темпераменту.
Маяковский был высокий, вернее, большой, потому что не астеничен, как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре, твердый нос, тоже немаленький, который часто свистел насморком - Маяковский говорил, что, как южанин, он то и дело простуживается в Москве, - выдающийся вперед подбородок.
Глаза у него были несравненные - большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует.
Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза - сквозь обои, сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это взгляд гения.
Это был король метафор. Однажды играли на бильярде - Маяковский и поэт Иосиф Уткин, которого тоже нет в живых. При ударе одного из них что-то случилось с шарами, в результате чего они, загремев, подскочили...
- Кони фортуны, - сказал я.
- Слепые кони фортуны, - поправил Маяковский, легши на кий.
Среди тысячи созданных им метафор он создал одну, которая потрясает меня. Говоря о силе слов, он сказал, что той силе слов, которой "рукоплещут ложи", он предпочитает ту их силу, от которой "срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек". Так мог сказать только Данте.
Я помню разодравшее сердце чувство осиротения, которое испытал я, когда мне сказали, что час тому назад Маяковского не стало.
- Как? Боже мой, навсегда? Это навсегда?
Я через некоторое время увидел его мертвого. Он лежал на диване, под стеной, со смертельными тенями на лице, укрытый простыней. Вечером я стоял на грузовике, на котором везли его в гробу в Клуб писателей - в гробу, краска которого липла к рукам. Это было в апрельский вечер, холодный, с маленькой луной в небе - и я этого никогда не забуду.
Маяковский не был, как известно, членом партии. Но он был всей душой коммунистом. Когда он читал стихи, направленные против врагов новой жизни страны - против всякого рода врагов, от Чемберлена до бюрократа или взяточника, - в его руках, казалось, сверкал меч.
Мне приснился сон, в котором я разговаривал с Маяковским с глазу на глаз. В комнате никого не было, мы сидели очень близко друг от друга... Я вижу его лицо перед собой и говорю о том, что, уже помимо тех поистине великих поэм, которые он написал, вот эта книга (я держу в руках книгу) - вот эта книга, говорю я, вот эта книга... Не помню, что я говорю, но в словах моих восхищение! Я говорю также, что мог бы написать о нем книгу. Это ему приятно. Я говорю с особой значительностью, так как подсознательно все время ощущаю, что он умер. Лицо у него доброе, грустное, и мне даже кажется, что в глазах у него слезы.
В день его смерти, когда, уже вечером, мы собрались в Ген-дриковом переулке, где теперь музей, а тогда была квартира Бриков, вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки - очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах - не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, - словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского.
Гамлет сильный, усталый человек - что-то вроде Маяковского. Впервые в жизни я видел Гамлета в Одессе. Играл Слонов. Я был гимназистом невысокого класса. Ничего не понял, ничего не понравилось, за исключением того, что в финале пьесы один из трупов катится, поворачиваясь по ступенькам с боку на бок.
— Что вы читаете, милый принц?
— Слова, слова, слова.
Вот так бы и назвать эту книжку:
Ю. ОЛЕША
СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА.
Ю. ОЛЕША
ДУМАЮ, ЗНАЧИТ - СУЩЕСТВУЮ.
В Москве два памятника Маяковскому: один - статуя, к которой он, по всей вероятности, отнесся бы строго, и другой - станция метро его имени, от которой он, влюбленный в индустриальное, несомненно, пришел бы в восторг.
Это очень красивая станция - со стенами из стальных арок, где сталь, в основном оставленная, так сказать, в натуре, в качестве цвета, местами выкрашена в сурик. Соединение этих двух цветов напоминает машины, оно именно очень индустриально.
Однажды эти арки показались мне гигантскими прорезями для рук в некоем жилете. В следующее мгновение я уже знал, что представляет собой эта станция.
- Стальная кофта Маяковского, - сказало мне воображение.
Вот как хорошо: он, носивший желтую кофту футуриста, теперь может предстать перед нами в стальной кофте гиганта.
Я еще попрощаюсь с тобой торжественно, выбрав специальную обстановку, а пока прощание на воспоминании. Я купил в магазине жареную курицу и, неся ее за ногу, отколупывал отдельные куски мякоти, отрывал крылья, извлекал плуг грудной кости... Словом, понятно, я ел курицу на ходу. Потом, испугавшись, что целая курица для одного это слишком много, я курицу в ее уже завершающемся виде выбросил вправо от себя на мостовую. Так как был вечер и улица не слишком главная, темноватая, то этого никто не увидел. Она всплеснула белизной и исчезла. Я пошел дальше, направляясь домой - то есть в типографию "Гудка" на улицу Станкевича.
Вот одно из черновых прощаний, дорогая жизнь. Между прочим, уже, как говорится за кадром, могу вспомнить маленькую деревянную комнату в типографии, где я жил. Впрочем, за кадром этого вспоминать нельзя.
Рядом, за фанерной стеной моей комнаты, в такой же деревянной комнате, жил Ильф.
Это были узкие, однако веселые и светлые клетушки - может быть, больше всего было похоже на то, как если бы я и Ильф жили в спичечных коробках.
Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходит Катаев и еще несколько человек, среди которых Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный - видно, после драки с кем-то. С ним был некий молодой человек, над которым он измывался, даже, снимая лакированную туфлю, ударял ею этого молодого человека по лицу.
- Ты мне противен с твоим католицизмом! - все время
повторял он. - Противен с твоим католицизмом.
Потом он читал "Черного человека". Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала. До этого я "Черного человека" не слышал.
Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит над пустынным и диким полем,
То ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь...
Это было прекрасно. И он был необычен - нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый, и в кровоподтеках после драки.
Когда я приехал в Москву, чтобы жить в ней - чтобы начать в ней фактически жизнь, - слава Есенина была в расцвете. В литературных кругах, в которых вращался и я, все время говорили о нем - о его стихах, о его красоте, о том, как вчера был одет, с кем теперь его видят, о его скандалах - даже о его славе.
Враждебных нот я не слышал в этих разговорах, наоборот, чувствовалось, что Есенина любят.
Это было вскоре после того, как закончился его роман с Айседорой Дункан. Он побывал с ней в Америке, вернулся - и вот теперь говорили, что этот роман закончен. Вернувшись из Америки, он напечатал, кстати, в "Известиях" впечатления о Нью-Йорке, назвав их "Железный Миргород". Мою радость по поводу этого хорошего названия я помню до сих пор; и до сих пор также помню газетный лист с этим подвалом - вернее, утро, когда я стою с газетой, разворачиваю этот лист и вижу заголовок.
- "Железный Миргород", - громко прочитываю я, как
видно, приглашая кого-то тоже порадоваться хорошему заго
ловку.
Я совсем еще молод, совсем.
Сегодня последний день солнцестояния. Очень жарко, и можно повторить все, что записано в прошлом году примерно под той же датой июня.
Некоторые смотрят как из тумана, другие еще хуже: как бы вошли в тесто. Таким украшением на корке пирога смотрел на меня вчера в ресторане Анатолий Мариенгоф. Боже мой, красавец и щеголь Мариенгоф?
- Что поделывает Некритина?
- Ждет вашей пьесы.
Слова! Некритина была изящная - вернее, извилистая - женщина с маленькой черной головкой, актриса, игравшая среди других также и в моей пьесе. Они живут в Ленинграде, у них повесился достигший отрочества сын. Мариенгоф, автор воспоминаний об Есенине (пожалуй, единственных), поэт-имажинист, в последнее время сочиняет пьесы, из которых каждая фатально становится объектом сильной политической критики, еще не увидев сцены. Так от этих пьес остаются только названия - обычно запоминающиеся и красивые - "Заговор дураков", "Белая лилия", "Наследный принц". В нем все же изобразительность со времен имажинизма - сильна. Но насколько выше, насколько неизмеримо выше был их, имажинистов, товарищ - Есенин!
Вот так бы я мог встретиться в коридоре ресторана и с Есениным. Так же он посмотрел бы на меня из тумана или с корки пирога. Нет, очевидно, могло только так и произойти, как произошло. Он ушел молодым, золотым, с плывущими по воздуху нитями волос. Я видел его всего несколько раз в жизни. Помню, как в комнате Ильфа на Сретенке он читает "Черного человека". Как это было грандиозно! Он был в смокинге и в лаковых лодочках, из которых одну то и дело сбрасывал с ноги...
Я видел знаменитого шахматиста Капабланку. Тогда он был экс-чемпионом мира после матча с Алехиным.
Мы вошли с Ильфом в помещение какого-то клуба на Большой Лубянке, где, как нам было известно, Капабланка должен был выступать в сеансе одновременной игры. Сеанс, когда мы вошли, был в разгаре. Между двумя рядами столиков, за которыми сидели участники сеанса и на которых были установлены желто-черные доски с фигурами, уже в некоторых случаях сошедшимися в целые толпы, продвигался, останавливаясь перед каждым очередным столиком и делая свой ход, молодой, хоть и не маленького роста, но толстенький брюнет с бледным смуглым лицом - скорее некрасивым, несколько бабьим и с хоботообразно вытянутыми самолюбиво-чувственными губами. Сразу было видно, что это южанин, причем житель совсем незнакомого нам тропического юга с бананами и низкими звездами.
Он держал короткие руки в карманах под нерасстегнутым и поэтому чуть приподнявшимся на животе пиджаком. Подойдя к столику, он задерживался на мгновение и тут же, воздушно взявшись за фигуру, переставлял ее. Иногда на полпути к следующему столику оглядывался на предыдущий... Множество пар глаз смотрело на него снизу. Он был небрежен и свободен, даже казался сонным, только хоботок его губ пребывал в некотором шевелении: то сокращался, то вытягивался.
Он был в черном костюме, и галстук на белой сорочке тоже лежал черный, и было в его фигуре что-то старомодное, отдельное, просящееся скорее в иллюстрацию, чем в фотографию - гениальное.
В Харькове? Да, да, в Харькове. Кто-то мне сказал:
- Вот это Мандельштам.
По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры - мужская и женская. Мужская была неестественно расширившаяся от шубы явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица... Мандельштам был брит, беззуб, старообразен, но царственной наружности. Голова у него была всегда запрокинута, руки всегда завершали или начинали какой-то непрактический, не житейского порядка жест.
Европа Цезарей! С тех пор как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!
Я хотел бы написать о Мандельштаме целое исследование, портрет. Есть ли портрет - исследование? Безусловно.
Мандельштам для нас, одесситов, был прежде всего петербургский поэт.
Анны Ахматовой настоящая фамилия - Горенко. Она родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском (как теперь говорят - на Одесщине). Мне приятно думать, что мы из одного края с ней. Ее рисовал Альтман. Горбоносая, худая. О ней писал Мандельштам: о ее голосе, что он "души расковывает недра)", о ней самой, что она по его представлениям похожа на Рашель - вот так, говорит он, как сидит сейчас перед ним Ахматова, "ложноклассическая Федра, сидела некогда Рашель!". Я считаю ее одним из виднейших поэтов в русском созвездии XX века. Когда я был гимназистом, она уже пользовалась славой. Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней. О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все "признали" меня. Наконец в Ленинграде, в Европейской гостинице, под вечер, когда я вошел в ресторан и сел за столик, ко мне подошел писатель П. и сказал:
- Идем, познакомлю с Ахматовой.
Я подошел. У меня было желание, может быть, задраться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имеет дело. Я сел за столик. Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление. Я, как почти со всеми тогда, кривлялся. И вдруг она заговорила. Она заговорила о том, в частности, что переводит "Макбета". Там есть, сказала она, строки, где герой говорит, что его родина похожа более на мачеху, нежели на мать, и что люди на его родине умирают раньше, чем вянут цветы у них на шляпах. Все это ей нравится, сказала она. Вернее, не сказала, а показала лицом. Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями: дать мне почувствовать, кто она. Это выходило у нее замечательно. Я чувствовал себя все тем же мальчиком, гимназистом. Мне тоже очень понравились эти строки из "Макбета" - понравилось еще больше проявление ее вкуса. Эти строки я запомнил, и часто они приходят мне на память.
Я замечаю, что многие умнее меня, творящие не слишком большое, даже совсем не творящие, а просто склонные размышлять. Так, сегодня психиатр Беркович (брат того Берко-вича, который прославился тем, что вступал в спор с Маяковским на его диспутах и иногда, между прочим, побеждал его к добродушному удовольствию того) - так вот этот психиатр говорил сегодня умно о детерминизме Льва Толстого в "Анне".
Очень удивительно, без берегов и каких бы то ни было--отталкиваний от чего бы то ни было, говорил Гайдар. Он меня любил и высоко ставил.
Я видел Станиславского несколько раз в жизни. В первый раз тогда, когда Московский Художественный театр справлял, по всей вероятности, свое тридцатилетие. Я написал тогда пьесу "Три Толстяка", которая была принята Художественным театром, и поэтому, в качестве автора театра, я присутствовал на этом юбилее - как на торжественном спектакле, так и на банкете. На спектакле, когда читались театру приветственные адресы, Станиславский и Немирович стояли очень близко, рядом - вернее всего выразиться, купно: каждый старался не стать впереди другого. Они немного топтались на месте, старание не стать впереди другого было заметно, и иногда поэтому получалось если не нелепо, то, во всяком случае, комично-Позже, на банкете, вдруг, наклонясь, чтобы не задеть висящие, вернее, стоящие, в воздухе во множестве воздушные разноцветные шары, идет в черной паре, и седой, и осклабясь, прямо ко мне Станиславский с бокалом. Вот он передо мной. Я еле успеваю встать. Рядом, помню, сидят Эрдман, Булгаков... Он, держа бокал, как для чокания, говорит мне лестные вещи о моей пьесе, я что-то отвечаю. Все подвыпивши: стоят шары, как некие лианы; подняв усатую губку, страдальчески и томно улыбается молодая Еланская...
За изобретением системы Станиславского (может быть, и как одна из причин ее рождения) ощущается постоянная и грустная мысль автора-актера о том, что спектакль всегда оказывается хуже самой драмы. Великие актеры, понимал Станиславский, умели уничтожать это превосходство драмы, но можно ли удовлетвориться такими частными, одиночными случаями? И он взялся за осуществление поразительного замысла: дать всем актерам возможность достигнуть уровня великих.
Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо, в общем, был написан "Список благодеяний". Тут даже побольше можно применить слова: какое замечательное произведение! Ведь это писал тридцатидвухлетний человек - это во-первых, а во-вторых, это писалось в Советской стране, среди совершенно новых, еще трудно постигаемых отношений.
Мой Маржерет, которого Мейерхольд пустил носиться по сцене не больше не меньше как с плеткой в руке, ничуть не бледнее Фейлана исландского драматурга.
В одном из вариантов этой пьесы я говорил о сердце, что оно мускул. У исландца то же определение. Так на разных точках земного шара сидят художники, видящие одинаково.
В Средней Азии особенно оценили меня за строчку, в которой сказано, что девушка стояла на расстоянии шепота от молодого человека. Это неплохо - на расстоянии шепота!
Однажды мы сидели с Валентином Катаевым в ложе еще не перестроенного, старого театра Вахтангова и смотрели мою пьесу "Заговор чувств".
Там была маленькая аванложа, и когда мы туда вошли в антракте, то увидели сидевшего одиноко в этой маленькой комнате, в углу, под обоями, большого черного всклокоченного человека. Тут же появился артист Русланов (сын Сергеенки, жившего при Толстом, его биографа) и представил нас неизвестному, оказавшемуся Владимиром Григорьевичем Чертковым.
Естественно, меня взволновало присутствие знаменитого друга Толстого на представлении моей пьесы.
- Вам понравилось? - спросил я.
Он - так вот эта прославленная прямота! - ответил:
- Извините, я глух.
Но он сказал это так, что ясно было, - он никак не хочет ни уколоть, ни посмеяться, ни показать пренебрежение. Просто он сознался. Тогда-то и долетел до меня звук какого-то не известного мне инструмента из далеко ушедших в прошлое рощ и лужаек Ясной Поляны.
Катаев со своей склонностью к сарказму все острил на ту тему: что вот, мол, глухи к твоему творчеству великие, глухи...
У меня есть убеждение, что я написал книгу "Зависть", которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листов исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе!
Читал "Белеет парус одинокий". Хорошо. Катаев пишет лучше меня. Он написал много. Я только отрывочки, набор метафор. О гиацинтах и у него. Бледная, но сильная стрела гиацинта. Неплохо.
На черной страде разъезжались ноги, низко летела ледяная крупа, я бежал против ветра - бежал, потому что против ветра меня гнал еще какой-то ветер.
Какая большая предстоит работа, какая большая занятость!
(Сюжет.)
Учитель пения (Цветков) страстно мечтал о том, как бы прочесть всей школе какую-нибудь трагедию Шекспира. По его мнению, никто из этой молодежи не знаком с Шекспиром. (Одна сказала, что видела в Москве "Коварство и любовь". Цветков. Вот видишь, это как раз Шиллера!)
Дело не в том, знают ли они Шекспира или не знают, - дело в страстном желании самого Цветкова, чтобы именно из его уст пролился перед ними этот мир образов.
Он, как-то говоря со школьниками, высказался в том смысле, что если уж придется ему когда-либо и в самом деле выступить перед ними с чтением шекспировской трагедии, то не мешало бы обставить эту "встречу молодежи с Шекспиром" особенно торжественно. (Если пьеса в стихах, то он говорит:
- Двенадцать барабанщиков позвать!
Пьесу писать пятистопным белым ямбом, стараясь делать так, чтобы стих не был заметен, - вздыматься он начинает только иногда, в особенно эмоциональных местах.)
Идея о торжественной встрече (двенадцать пионеров с барабанами) смешит и увлекает молодежь (Цветков бросил ее в шутку, между прочим), и, когда наконец наступает взлелеянный Цветковым в мечтах вечер читки, - он уже приступил, прочел самое начало, - вдруг под общий хохот и аплодисменты раздается дробь барабанов, и предводительствуемые Тоней входят двенадцать пионеров с барабанами. Тоня одета в некий театральный костюм (раздобыла в местном театре), который ей представляется "шекспировским" (широкая шляпа с пером, колет с перевязью, на которой меч, сапоги с низкими отворотами); пионеры становятся шеренгой, Тоня рапортует Цвет-кову.
Читка сорвана.
Огорчение старика.
Тоня (она, когда училась пенью в младших классах, была его любимой ученицей) потрясена тем, что так огорчила старика. Огорчение действительно роковое (и внутреннее и физическое), возможно, он даже покидает городок, идет пешком... Тут может иметь место сцена, когда Тоня, догнав ушедшего Цветкова в какой-нибудь железнодорожной сторожке, просит прощения, и затем у них разговор о молодежи, о культуре.
Тоня (она простая, веселая, влюбчивая) обещает старику, что сама сделает доклад о Шекспире. Тот в восторге: "Да, да, ты сделаешь доклад, а затем я прочту трагедию".
На этом кончается первое действие, оставляющее зрителя в ожидании событий в этой связи - доклад школьницы Тони о Шекспире.
- В дальнейшем - гитлеровские войска в этом маленьком городке, война. И то, что происходит с Тоней. Происходит героическое, показывающее ее самое как лицо из Шекспира, шекспировскую героиню. Это - ее "доклад о Шекспире".
Основная мысль пьесы: каждый может ознакомиться с Шекспиром, важно самому быть героем.
Тут возможно следующее. В той же самой школе, которая наполозину разрушена, поселились фашисты. Какой-нибудь пожилой, обрюзглый фельдфебель из штурмовиков любит цветы (разводил их у себя на родине). Он спрашивает Тоню, оказавшуюся в саду школы в ходе развития действия:
— А что здесь цветет весной?
— А не все ли вам равно? - спрашивает Тоня. - Ведь весной вас все равно здесь не будет!
Оскорбленный в лучших чувствах ("Нехорошо, я так мирно спросил тебя о цветах!"), фельдфебель велит повесить Тоню, и ее вешают.
И вот среди немецких солдат исподволь слагается легенда о советской девочке, сказавшей такие гордые и красивые слова в лицо страшному фельдфебелю (его свирепая слава распространена на многие гарнизоны)... Эта легенда полна уважения к девочке и народного сочувствия к ней. (Противопоставить фашиствующим командирам солдатскую массу).
Соединением, расположившимся в этом районе, командует полубезумный офицер (его тема - мировое господство германской расы). Ему становится известно, что образ гордой школьницы потряс его солдат, что слагается легенда... Это бесит его, и однажды, ворвавшись в трактир, где как раз полупьяные и испуганные солдаты рассказывали эту легенду, он велит сопровождающим его автоматчикам открыть по солдатам огонь. И они гибнут - все сидевшие в трактире, - повисают на перилах, остаются у столов, падают на лестнице.
У командира (он в хорошем чине) гостит его друг по Берлину, знаменитый фашистский драматург (зовут Ганс Кафка), посланный Гитлером на войну, чтобы написать "эпопею о гибели России". Он в разговоре с командиром о русской культуре, истории, о русских сказаниях приводит легенду о граде Китеже.
Командир, почти хватаясь за пистолет, кричит в исступлении:
- Это ты сам придумал, сам! Врешь! Врешь! Они не могут
создавать ничего прекрасного! Врешь!
(Для пьесы.)
Тогда немецкий солдат спрашивает Цветкова (тот по заданию партизанского отряда оказался в городке), откуда он так хорошо знает немецкий язык. Старик говорит, что этому помогло, по всей вероятности, долгое, продолжавшееся почти всю жизнь, знакомство с одним немецким генералом. Солдат невольно вытягивает руки по швам. Сказав эти слова, чрезвычайно внушительно прозвучавшие именно для немецкого солдата (знакомство с генералом!), старик берет с рояля свечу (сцена происходит ночью в полуразрушенной школе) и идет с ней в темнеющую глубь зала.
- Вот этот генерал! - произносит старик.
Рука его поднята, и в ней свеча с бегущим пламенем. В этом мечущемся свете видит солдат маску Бетховена с застревающими среди завитков волос тенями.
В дальнейшем надо стараться вести эти записи все же так, чтобы получалось нечто законченное. Если этой законченности нет, то что же они представляют собой? Имеет ли интерес такая неоконченная запись? Что это? Зачем это? Просто блеск какой-то породы, жилы? И никто не идет дальше вдоль этого сиреневого зигзага, какого-то аметиста?
Маленькие гномы, которых поляки называют краснолюдка-ми и о которых так хорошо писал Гейне, исполняли, по преданию, эту работу по находке и гранению камней. Они заняты были этим в Богемских горах. Они носили красные, синие, зеленые шапочки, у них были румяные, но немного в жилках лица весельчаков и чревоугодников, длинные белокурые бороды при отсутствии усов. Иногда они отправлялись в какие-то непонятные людям шествия... Гейне пишет, что по сохранившимся свидетельствам гномы довольно охотно общались с людьми и производили самые разнообразные волшебства, полезные для людей. Разрыв между людьми и краснолюдками произошел не по вине последних; наоборот, виноваты как раз люди с их грубостью и эгоизмом. Например, гномы пришли однажды посмотреть на какой-то праздник в деревне; они уселись на длинной ветке дерева - все в ряд, и смотрели себе на праздник. Кто-то из людей, какой-то грубый парень, подпилил ветку, и все краснолюдки упали вместе с ней под хохот деревни. Так постепенно охладели гномы к людям, которых прежде любили, которым служили своим волшебством.
Вероятно, это было в конце осени. Скорее всего, именно так, конец осени. Сперва я подумал: не в конце ли зимы? Нет, эта смесь снега с черными пятнами земли, эти голые деревья - хоть такой пейзаж бывает и в конце зимы, но тогда вдруг пролетит над серыми грудами туч голубой проблеск, кусочек чистого неба... А тут - нет, тутуныло все было затянуто в серое и мокрое. Осень!
Навстречу мне идут три слепых музыканта. Один несет флейту, завернутую в зеленый фартук, другой - скрипку, сильно отражающую солнце, у третьего на боку гармоника... Нет, вижу, это не гармоника, нет! Показалось! Это жилетка на музыканте, лихая, расстегнутая красная жилетка, расшитая серебряными пуговицами!
Когда умер Игорь, я имел намерение попросить Меркурова сделать надгробье в виде мраморной доски с изображением на ней мальчика, гребущего в лодке. Я не привел в исполнение этого намерения, так как все мои высокого порядка связи с людьми стали в ту эпоху, из-за моего образа жизни, падать. В том числе упала связь и с Меркуровым.
Меркуров был огромный человек с черной - очень черной; черной, как ночь; почти полной звезд бородой. По всей вероятности, носить большую бороду было обыкновением у скульпторов по причине их любви и уважения к Родену. (Роден, говорят, был карлик с бородой, гном.) Я хорошо знал раньше его жену Стеллу. Теперь они оба умерли. Я еще напишу о Мерку-рове, который снимал последнюю маску с Льва Толстого и рассказывал мне об этом.
Прости меня, Игорь!
Я присутствовал при том, как скульптор Меркуров снимал посмертную маску с Андрея Белого. В зале Дома литератора, который тогда назывался Клубом писателей, было еще несколько человек, и мы все столпились у гроба, в котором лежал поэт обезображенный и, казалось, униженный тем, что голова его была залита гипсом и представляла собой некий белый, довольно высокий холм.
Меркуров, поскольку работал с гипсом, был в халате, и руки его были по-скульпторски испачканы в белом.
Он разговаривал с нами, и было видно, что он чего-то ждет. Поглядывал на часы, отодвигая стянутый тесемками рукав. Вдруг он подошел к белому холму и щелкнул по его вершине пальцем, постучал, отчего холм загудел.
- Готово, - сказал он и позвал: - Федор!
Подошел Федор, тоже в халате, - помощник - и снял холм, что не потребовало затраты усилий - он снялся с легкостью, как снимается крышка коробки. Я не помню, что мы увидели - если начну описывать, то это не будет воспоминание, а нечто сочиненное. Увидели просто лицо мертвого Андрея Белого.
- Вот и маска, - сказал Меркуров.
Маска была еще, так сказать, внутри этого куска гипса, еще, так сказать, в обратном виде, и мы ничего не поняли из того, что понимал скульптор, смотревший во впадину в куске гипса, как смотрят в миску.
- Вы ведь снимали маску со Льва Толстого? - спросил кто-то из нас.
- Снимал.
- Ну и что? - вырвалось у спросившего.
- Сильно прилипла борода.
Я вовсе не хочу порочить скульптора, приводя этот как бы цинический ответ. Он совсем и не был в эту минуту циником. Просто он ответил профессионально.
У Меркурова в ателье целая стена была увешана копиями масок, снятых им со знаменитых людей. Я не видел этой стены ни наяву, ни во сне.
Когда с человеком случается инфаркт, его настолько нельзя беспокоить, что одежду не снимают с него, а тут же разрезают. Возможно, что людям следовало бы время от времени прибегать к подобному абсолютному отдыху, к абсолютной неподвижности.
Организм сам подсказывает человеку, как поступить. Просто человек так подвластен условностям, что ему неловко было бы предпринять какое-либо лечение, не похожее на общепринятые: "о, нет, не беспокойте меня, я буду абсолютно неподвижно лежать три дня!"
Кстати, о том, что организм сам подсказывает. Как раз Зощенко держится противоположного мнения. Он говорит, что организм хоть и может подсказать, но для него самого существуют неясности. И, скорее, организм из желания помочь вам может вас погубить. Так, если вам не очень хочется идти в дом, в который вы все же идете, то организм может распорядиться так, что вы на лестнице умрете от удара. Эту теорию свою Зощенко называет - "мозг-дурак".
Зощенко очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно - как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему остаться таким же благотворителем. Это грустный человек, человек, чаще всего повторяющий фразу Ницше о "жалкой жизни, жалких удовольствиях"... Вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы. Работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо. Между прочим, он умеет тачать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждение. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и появившемуся в моем и Зощенки обществе Фадееву:
- Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте
нашей литературы - это то, что ты приехал в Ленинград?
Ошибаешься, важнее это то, что писатель Зощенко починил
штаны писателю Олеше.
Вошли две девушки, одна покрупней, другая мелкая - обе расфуфыренные, как будто собрались на вечеринку, и с порога начали искать кого-то глазами. Я почувствовал, что меня. Так и оказалось.
- Алеша здесь? - спросила которая покрупней, переврав, конечно, фамилию:
- Алеша здесь?
- Да, да, я.
Они двинулись ко мне упругим шагом - в подбритых бровях, в локонах. Тем не менее обе были в белых халатах, и одна держала на руках ящик со стеклянными пробирками разных калибров - ящик-дикобраз, весь в стеклянной щетине...
Помню, я сказал им навстречу:
- Служба крови.
Верно, они пришли брать на исследование мою кровь. Обе сели: одна - спустив ноги по левую сторону кровати, другая - по правую. Которая покрупней взяла из ящика шприц.
- Протяните палец. Нет, этот.
Укол довольно болезненный. Потом ваша кровь взбегает в стеклянном столбике, и вы удивляетесь, что она так ярка. Потом ватка, потом стеклышко, потом ваша кровь в виде пятна, потом девушка дует в трубку.
Вы острите. Обе девушки молчат. Вы хорошо острите. "Служба крови", например, это хорошо. Нет, они молчат. Они видят ужасное существо с гноящимися глазами, с руками в шелушащейся коже; вы были смертник - они это знают. Упруго встав, они идут к другой кровати, а вы вздыхаете и вот-вот заплачете.
По-моему, я увидел этого горбуна только вечером моего первого дня после операции. Сперва что-то громко стучало с более или менее правильными промежутками - стучало где-то, безусловно, вне комнаты, где я лежал, но я не знал, что этот стук доносится из коридора. Очень громкий, но все же изящный, сухой стук, щелкание. Меня мучил этот стук, впрочем, как все мучило - как мучило само мое существование. Потом стук неожиданно прекратился, и тут же я понял, что это было. Кто-то, не замеченный мною при своем входе в комнату, говорил теперь уже недалеко от меня об игре в домино. А, так вот что это - домино! Как же разрешают в больнице так громко щелкать?
Не менее громко, но так же изящно и сухо звуча голосом, человек говорил о том, что он играл в домино. Он сопровождал рассказ шутками, несмешными, привычными, скорее - просто фигурами красноречия, в свое время рассчитанными на юмор, а теперь вызывавшие во всем существе муку.
Вдруг мне удалось увидеть говорящего. Это был горбун в темном больничном халате. Так вот почему он говорил изящно и сухо - горбун, вот почему, это их свойство!
Он был молод, с большим тонким плугообразным носом - как и у многих горбунов. Волосы были причесаны назад, руки совершали, вращая кистями - большими, как у горбунов, - большие движения, вызывающие в сознании представления об открывающихся шлюзах. Он был чист, мне казалось, сух, элегантен. Все это, конечно, от вечернего света, от вечерних теней - как я мог бы лежать иначе! - но тут в больнице это лежание именно ногами вперед приобрело какой-то особый зрительный смысл. Все я видел по ту сторону ног, ступней, моих ступней, возвышавшихся недалеко, только протяни руку, приподнимись - но я не мог ни приподняться, ни протянуть руку.
Умирающего Мусоргского привезли в больницу, где мог лечиться только определенный круг военных. Его не хотели принять, кто-то помог, и композитора положили под именем чьего-то денщика. Так он и умер под чужим именем.
Набил оскомину тот факт, что Моцарт был похоронен в могиле для нищих. Так и любое известие о том, что тот или иной гений в области искусства умер в нищите, уже не удивляет нас - наоборот, кажется в порядке вещей. Рембрандт, Бетховен, Эдгар По, Верлен, Ван Гог, многие и многие. Странно, гений тотчас же вступает в разлад с имущественной стороной жизни. Почему? По всей вероятности, одержимость ни на секунду не отпускает ни души, ни ума художника - у него нет свободных, так сказать, фибр души, которые он поставил бы на службу житейскому.
Кто этот старик, по-бабьи повязанный, бредущий без цели, вероятно уже примирившийся с нищетой и даже греющийся в ней? Это автор "Данаи" - в золотом дожде! Кто этот однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообедать две сварливые бабы: жена и дочь? Это Сервантес.
Кто этот господин с бантом и в тяжелом цилиндре, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий из-за борта сюртука волшебно незаканчивающуюся, бесконечно выматывающуюся из-за этого щуплого борта турецкую шаль? Это Пушкин.
Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро. Философ думал, что это его удел - жить в конуре. Вмешательство Екатерины помогло ему уже на старости лет зажить безбедно - в хороших апартаментах, с мебелью и т. д.
Я вспомнил об этой записи у Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой, рассчитывая, хватит ли у меня денег на двести граммов сахара, и имел ли я поэтому право купить газету. Три года тому назад, когда жил в этом же районе, было то же самое: я иногда заходил на улицу, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак. Если прошли три года с тех пор, а все то же, то и я могу думать, что это не случайность, а именно удел.
Самое дурно меня характеризующее здесь - это сравнение с Дидро. Впрочем, для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет - вернее, обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меня и себя. Иногда мне удается услышать, что он говорит, я повторяю, и люди считают, что я умный... Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Пастернак, написавший горы - горы прекрасных стихотворений, прозы, переводов из Шекспира, из Гёте, Пастернак, потрясший Ахматову сравнением дыма с Лао-кооном; он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет, и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне - в случайной своей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно - свою смерть.
Шопен действует на нас как-то особенно. Безусловно, вызывает то, что называется сладкой грустью. Безусловно, он возвращает мысли к картинам молодости - нам, старым, а молодых, вероятно, настраивает на мысли о любви, которая не сулит счастья.
Подумать, он умер всего тридцати семи лет, а сколько создал мелодий. Они вьются в нашем слухе, как живые, иной жизни, существа.
Большинству людей он известен как автор похоронного марша. Вернее, большинству людей известен его похоронный марш, об авторе которого не думают. Какими только оркестрами он не исполняется! Я видел драные тусклые трубы, из которых он лился на похоронах жертв революции, над утлыми лодками гробов, в которых лежали желтолицые матросы.
Идешь в толпе по черно-белому снегу ранней весны, и он на огромных ластах движется, покрывая нас, - этот марш, это гигантское рыдание, вырзавшееся сто лет, больше, тому назад из узкой груди молодого человека.
Иногда сквозь реальные обстоятельства моей жизни, сквозь ее обстановку - сквозь вещи и стены моего дома, - проступают образы какой-то другой жизни: тоже моей, но совершающейся не всегда ощутимо для меня, не всегда, так сказать, у меня на виду. Вдруг проступает какая-то комната, голубая от сумерек и от стен, крашенных масляной краской. Чистая комната с игрушками посередине, с кроватками вдоль стен, с фризом на масляной стене, тоже изображающим игрушки. Детская? Чья? У меня никогда не было детей. Вдруг на мгновение чувствую я, что это дети моей дочери. У меня никогда не было дочери!
Да, но я пришел к дочери. Я отец и дедушка. Я в гостях у дочери, у внуков, в воскресенье, когда меня ждали к обеду. Может быть, я пришел обедать. Скорее всего, не пришел по какой-то причине... Но зато я принес торт! Боже мой, как я помню этот квадрат торта, который неловко нести!
Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она, так сказать, только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острю. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают. Так как с ощущением "я живу" ничего не происходит и оно остается таким же, каким было в младенчестве, то этим ощущением я воспринимаю себя, старого, по-прежнему молодо, свежо, и этот старик необычайно уж нов для меня - ведь, повторяю, я мог и не увидеть этого старика, во всяком случае, много-много лет не думал о том, что увижу. И вдруг на молодого меня, который внутри и снаружи, в зеркале, смотрит старик. Фантастика! Театр! Когда, отходя от зеркала, я ложусь на диван, я не думаю о себе, что я тот, которого я только что видел. Нет, я лежу в качестве того же "я", который лежал, когда я был мальчиком. А тот остался в зеркале. Теперь нас двое, я и тот. В молодости я тоже менялся, но незаметно, оставаясь всю сердцевину жизни почти одним и тем же. А тут такая резкая перемена, совсем другой.
- Здравствуй, кто ты?
- Я - ты.
- Неправда.
Я иногда даже хохочу. И тот, в зеркале, хохочет. Я хохочу до слез. И тот, в зеркале, плачет.
Вот какой фантастический сюжет!
Что я видел в своей жизни? Начну с того, что я видел только что. Через асфальтированный путь, по которому я шел вдоль Кремлевской стены - точнее, поперек этого пути, быстро продвигался воробей. Он был один на асфальте, среди большого куска блеска, едва затемненного одним лишь опавшим листом, - один маленький воробей, быстро и как-то вбок подпрыгивающий по серому тону, способному отразить большой ливень.
Он тут же достиг зеленого откоса и исчез в высокой траве и полевых цветах.
Вот что я видел только что.
Гораздо раньше я видел, как лежал, дыша целой горой груди, раскинув руки, смертельно раненный, умирающий бандит. Это было на Дерибасовской улице, когда мне было восемнадцать лет. Я не хочу, чтобы читатель искал в моей книге каких-либо наперед задуманных аналогий, смысловых перекличек. Если они получатся сами, то хорошо, их дело - сознательно же я более всего далек от желания как-либо плоско философствовать, начиная с воробья и перескакивая на бандита.
С достоверностью можно утверждать, что подавляющее большинство людей не уделяет какого-либо особого внимания звездному небу.
Часто ли вы видите человека, который, подняв голову, смотрит на звезды? Или бывало ли с вами так, чтобы в то время, когда вы сами смотрели на звезды, кто-либо подошел к вам н, догадавшись, какой звездой вы именно восхищаетесь, разделил с вами восхищение?
Пожалуй, в основном люди, живущие в городах, не предполагают, что вид неба в целые периоды года почти одинаков, что это неподвижный узор. Скорее всего, думают люди, что вечерами оно выглядит иначе, что каждый вечер взлетает и рассыпается в небе новая звездная ракета.
Иногда и сам идешь, забыв о небе, и оно над тобой как надвинутая на лоб голубая шапка с блестками.
Может быть, книга эта, которую я сейчас пишу, есть не что иное, как рассказ о том, как я все собирался попасть когда-нибудь в обсерваторию.
Когда я думаю о пещерных людях, они представляются мне стоящими во времени ближе ко мне, чем, скажем, люди средневековья.
Почему это? Может быть, потому, что они голые, грызущие кости, страдающие от холода, страха - без огня: то есть они более люди, именно люди, реальные люди, а не те, средневековые, в их фантастических одеждах, с их спорами на религиозные темы.
Странным кажется также относительно быстро наступившее в развитии человека, его, так сказать, понимание одежды, появление вкуса к ней.
В самом деле, римские тоги - некоторые были алые, некоторые с золотой полосой по подолу; в самом деле, красивые волосы готских королей, их короны; в самом деле, стремительные уже чуть ли не по десятилетиям изменения покрова, цветов, самой сущности одежды в средние века и на заре новых - уже почти рождение моды. Хотя бы красные капюшоны в соединении с таким же красным воротником с зубчатыми краями и закрывающим плечи; хотя бы туфли пажей с длинными носками и их трико на одной ноге, скажем, лиловое, на другой пестрое, полосатое или в звездах.
Из всех надстроек раньше всего появилось художество, внимание к красоте, умение ее создавать и ей служить. Еще Гомер сравнивает убранные волосы с гиацинтом, и, пожалуй, так специально и завивали свои волосы греческие дамы - гиацинтообразно.
Когда, начитавшись Морозова, я с апломбом заявил критику Дмитрию Мирскому, что древнего мира не было, этот сын князя, изысканно вежливый человек, проживший долгое время в Лондоне, добряк, ударил меня тростью по спине.
- Вы говорите это мне, историку? Вы... вы...
Он побледнел, черная борода его ушла в рот. Все-таки перетянуть человека тростью тяжело физически, главное, морально.
- Да, да. Акрополь построили не греки, а крестоносцы! - кричал я. - Они нашли мрамор и...
Он зашагал от меня, не слушая, со своей бахромой на штанах и в беспорядочно надетой старой лондонской шляпе.
Мы с ним помирились за бутылкой вина и цыпленком, который так мастерски приготовляют в шашлычных, испекая его между двумя раскаленными кирпичами, и он объяснил мне, в чем мое, а значит, и Морозова невежество. Я с ним согласился, что древний мир был, хотя многие прозрения шлиссельбуржца до сих пор мне светят.
Как бы там ни было, но то, что он создал свою систему отрицания древнего мира, гениально. Пусть сама система и невежественна, но сам факт ее создания, повторяю, гениален, если учесть то обстоятельство, что Морозов был посажен в крепость на двадцать пять лет, то есть лишен общения с миром, по существу, навсегда.
- Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же! Вашего мира не было!
Ведь и проложить дороги было чудом соображения и техники!
Дорог не было. Овраги, грязь, волнистость почвы - груды камней, вместо прямого пути извилины, сделанные природой, заросли, вот по какому пути двигались люди. Даже греки с их государственным устройством и искусством. Трудно собрать в воображении воедино греческую тогу, стихи Сафо, архитектуру Акрополя, изящество мифов, Сократа и суд над ним - трудно собрать это воедино с отсутствием дорог. Все же их не было. Как торговали? Даже как воевали? Как могли идти строем? Шли толпой, когда одна часть отряда появлялась из-за пригорка, другая - вязла в болоте. Что двигалось по волнистой, в расселинах и нагромождении камней дороге? Телеги в упряжке? Всадники? Ничего не поймешь.
Появившиеся дороги римлян были таким могущественным изобретением, что они сохранились до сих пор.
Кто их строил? Рабы? В чем они жили? Бараки? Под открытым небом? А если шел дождь? Как себе все это представить? Хорошо, о рабах не слишком заботились, били плетками, покупали, но как в таком случае они могли работать производительно? Как их кормили? Приезжали кухни? Откуда? Как они выглядели? Брали еду с собой? Питались плодами растущих поблизости деревьев? Как они их сразу же не объедали? Ничего не поймешь.
Чем строились дороги? Римская лопата, кирка, лом, были ли они? Для выравнивания нужны катки. Что такое римский каток?
Можно ли представить себе множество рабов, которые скребут чуть ли не руками - а чем же? Хватит ли на всех орудий? - потеют, хотят есть, кричат, дерутся, мочатся, испражняются, умирают.
Кто их конвоирует и стережет? Как кормится конвой, на чем спит? Ничего не поймешь.
Хочу ли я славы? Нет. Хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков. Тореадор, проделав какой-то пассаж борьбы с быком, оборачивается вдруг спиной к быку, как бы забывает о нем и, подбоченясь, идет по направлению к ложе президента. Он не знает, что делает за его спиной бык - может быть, мчится на него на своих маленьких, шатких ножках!
Видел вчера в "Новостях дня" на Сретенке иностранную хронику. Бегут худенькие фигурки индонезийцев в касках и с автоматами, горит, раздуваясь огнем и дымом, огромный костер из сжигаемых бумаг и предметов, выброшенных из многоэтажного дома... Это разгром межнациональной комиссии по миру во Вьетнаме.
Современное кино снимает хронику очень эпично, с применением приемов художественной кинематографии (ракурсы, крупные планы). Серо в воздухе от дыма, в нем мелькают каски, серый воздух, серый асфальт, черные мечущиеся полотнища дыма.
Я искал эту хронику ради того, чтобы увидеть включенный в нее кусок из испанской жизни - бой быков (что этот кусок включен, я узнал из газеты). И вот начинается этот кусок. Надпись или диктор, не помню, сообщает, что в Испании до сих пор сохранился бой быков и что сейчас будет показана хроника такого боя в цирке в Мадриде и с участием знаменитого матадора.
Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего Колизея, который, будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек-людей. Потом мелькнули крупным планом две почти голые, шевелящие веерами и залитые солнцем испанки. Потом средним планом я увидел пикадора верхом на лошади, которую, поджидая быка, он заставлял стоять почти на месте и сжато, пружинисто перебирать ногами. Черный бык среди пустоты арены бежал спиной ко мне с двумя воткнутыми в него шпагами в лентах, напоминая поврежденное насекомое, никак не умеющее подобрать волочащиеся надкрылья. И тут кадр заполнился почти во всю свою величину двумя фигурами - быка и матадора! У меня от страха и восторга стало стучать сердце. Так вот что делают эти матадоры, эти "эспада"! Он очень близко к быку - во всяком случае, в соприкосновении с его телом, - он опутан его телом, которое бежит вокруг него, преследуя полотнище, которым тот, знаменитый матадор, играет. Я чувствовал в эти несколько мгновений, пока колыхался передо мной этот темный, как бы тяжело дышащий кадр с быком и матадором, приведенными в движение, тайные и очень мощные силы души. Я был и женщиной, влюбленной в матадора, и, наоборот, как раз больше всего презирал в эту минуту женщин, и все время у меня стучало сердце, и я готов был кричать вместе с этим древним цирком.
Ну и ответил бы мне на это Маяковский, который, видя бой быков, жалел, что к рогам быка не прикреплен пулемет, который стрелял бы по зрителям!
Франклин начал сознательно жить уже культурной, почти нашей современной жизнью, в ту эпоху, когда в России был Петр, потом Анна, Елизавета. Подумать только: франклиновс-кие правила нравственности, его типография, громоотвод - и елизаветинское вырывание языков!
Когда читаешь тенденциозно подобранные факты, личность кажется поразительной. Это своего рода "мирный" Наполеон. Та же всеобъемлющая энергия, только направленная на мирные цели.
Вдруг наталкиваешься на его злорадство по поводу приверженности индейцев к алкоголю и вследствие этого их вымиранию... Вот и историческая ограниченность! Индейцев он называет жалким племенем и высказывается в том смысле, что было бы лучше, если бы "провидение заменило их трудолюбивыми хлебопашцами"... Кем же? Плантаторами с их рабством?
Для рождающегося нового мира буржуазии действительно открыватель, вождь. Кстати, это ему принадлежит выражение "са ира". Когда французы спросили его о его взгляде на дела их революции, он сказал:
- Са ира!
(Ничего, мол, дело пойдет!)
Более всего увлекательное для меня чтение - о французской революции. Что-то есть близкое моей душе в этих событиях. Странно, что, читая почти всю жизнь о французской революции и особенно любя это чтение, я тем не менее точного представления о предмете - если бы, скажем, экзаменоваться - не знаю. Только толпа передо мной - в полосатых штанах, с пиками; только желтые стены тогдашних парижских домов; только силуэты сидящих на фоне окон членов конвента... только пятна, краски - Бонапарт со своей фантастической наружностью, колышущаяся шляпа Барраса...
На днях как раз умер большой знаток всего этого - Тарле. Кстати говоря, от его писаний, хоть в некрологе он и назван большим художником слова, не остается того именно художественного, поэтического впечатления, какое остается, например, после чтения Тьера, Милле, Луи Блана, Гейсера. Скорее, ощущение компиляции.
Тьер против Робеспьера и, гениально пиша свою историю именно как писатель, он изображает его отвратительным, кровожадным, душой террора, любимцем женщин, чистехой, ханжой, любителем апельсинов. Луи Блан, наоборот, поклонник Робеспьера и говорит, что как раз те, кто его свалил, были вождями террора, и когда читаешь Блана, становится жаль Робеспьера, особенно в ту минуту, когда, раненный в челюсть пистолетной пулей жандарма Меда, он лежит в ратуше, на столе, всеми покинутый, и вытирает кровь кобурой пистолета, - представьте себе прикосновение к ране кожаной и, по всей вероятности, шитой металлическими нитями кобуры. Это властитель Франции, уже начавшей потрясать мир.
У Тьера фаворит Наполеон. От описания его Египетской экспедиции осталось у меня впечатление, как если бы мне рассказали прямо-таки волшебную сказку о юном герое, кому доступно одинаково как ведение войны, так и мысли, опережающие век!
После одной из операций против турок, закончившейся их полным разгромом, Клебер обнимает Бонапарта за талию - за эту узкую талию эпохи Революции, опоясанную высоким шарфом - и говорит:
- Генерал, вы велики, как мир!
Уезжая из Египта брать в руки власть над Францией, Бонапарт оставит своим заместителем этого Клебера. Следует помнить, что у французской стороны нет флота, уничтоженного Нельсоном, они обречены пребывать в Африке, может быть, и до конца жизни. Нелегко стать во главе этой армии. Клебер, влюбленный в Бонапарта, ставится во главе ее и вскоре падает мертвым под кинжалом фанатика.
Редко какое чтение так увлекательно, как чтение о Наполеоне. Он в каком-то салоне, будучи молодым генералом, в период ухаживания за Жозефиной, разыгрывал какие-то импровизации, изображая черта, строя гримасы, сверкая зубами. Свидетельница, в чьих воспоминаниях описана эта сцена, сообщает, что ему очень удавались эти импровизации, поскольку со своим темным лицом и белыми зубами он как раз походил на черта.
Его обычно изображают белолицым. Стендаль пишет о ровной и, как он замечает, производящей здоровое впечатление бледности. Ипполит Тэн В книге "Наполеон" (она у нас мало известна) говорит, что этот род был в прошлом, по всей вероятности, сарацинским. На Корсике, говорит он, много сарацинских погребений. Наполеон представляется Тэну сарацином, арабом. У него темное лицо (как об этом пишет упомяну, тая дама), и, только творя легенду, его делали белым. Оттого, что он араб, происходит и жестокость его по отношению к Европе, равнодушное проливание им крови европейцев. Размышление, во всяком случае, талантливое.
Впрочем, Стендаль, бывший рядом с ним, так сказать, сослуживец, говорит, как уже сказано, о бледности. Что мы знаем об этом! Во всяком случае, братья кажутся черномазыми, итальянцы. Голова работы Канавы в Эрмитаже прелестна по европеизму, изящна, мечтательна, грустна, обреченно-туманна.
- Смотри, - сказал мне Катаев, - в ней нужно узнать Наполеона, правда?
Да, она туманна, эта мраморная голова, и черты, известные вам, проступают не сразу. Сперва это только грустный, понимающий свою обреченность человек.
После него - Канова, Россини, Байрон. После него фаланга - великолепных побед юности. Бетховен? Бальзак? Лермонтов? Можно сказать, эта таинственная судьба взывала именно к юности, брала юность под защиту, благословляла ее. Так ли это? А ведь если бы не брат, он не захватил бы власти. Стоит ли смешивать юношу Лермонтова с юношей, велевшим порубить саблями три тысячи египтян на берегу Нила? Может быть, эти юноши и окружили это итальянское черномазое лицо венком?
Нет, все же это он вызвал на собрание герцогов и королей, в каком-то немецком городе поэта Гердера, и, когда тот явился чуть ли не в домашних туфлях, за неимением других, император в течение нескольких часов разговаривал только с ним и только ему оказывал внимание. Нет, все-таки это было чудо - глубоко европейское - вот именно атлантическое, все в колорите не слишком далеких расстояний, названий столиц, народов, гор, рек.
Мы еще вернемся к нему. Он все время шумит где-то за нами. До сих пор шумит!
Самое привлекательное для моего внимания за всю мою сознательную жизнь была оглядка на существование за моей спиной Наполеона. Чем так привлекает эта судьба? Она есть не что иное, как символ человеческой жизни с ее молодостью, устремлением в будущее и концом, все еще устремленным куда-то - в закат, в даль острова Святой Елены.
Читать о Наполеоне, по всей вероятности, приятно по той причине, что от этого чтения рождается ощущение бессмертия. Эта победа молодости вызывает представление о нескончаемой протяженности в будущее, о бессмертии. От этого именно нравятся нам более молодые знаменитые, успехи молодых, а не старых. Те все равно умрут, уже в морщинах и с желтыми глазами, а эти, возможно, начинают эру бессмертия.
Я никогда не видел пирамид. Как странно, что они есть. Как странно, что под ними давал сражение Бонапарт. Только представим себе мундиры офицеров времен Французской революции среди желтизны пустыни.
Всю жизнь взгляд устремлялся в закат. Трудно представить себе что-нибудь более притягательное для взгляда, чем именно эта стена великого пожара.
Так ли бедно нужно сравнивать закат?
Греки видели как раз пожар, в котором гибнет Фаэтон. По всей вероятности, закат принадлежит к тем проявлениям мира, которые могут быть сравнены с чем угодно. Там громоздится город, растут башни, прокладываются длинные дороги. Иногда это Библия, видение Иезекиля с гигантской гитарой лучей, иногда птица-лира, иногда тихий воздушный флот, удаляющийся с приветом от нас в страну друзей, которые нас оставили.
В старости есть некий театр. Безусловно, мне что-то показывают. Ведь я мог бы и не дожить до старости! Мне скажут, что я также мог бы не дожить и до любого года. Верно, но любой год в молодости и зрелых годах мало чем отличается от другого года, от целых десятков лет... А старость - это совсем новое, резко новое. И я это вижу! Отсюда ощущение, что тебе что-то показывают, что ты в театре.
Вчера меня просто отогнал от своего киоска газетчик-еврей.
Я вмешался в неправильную, как мне показалось, его торговлю. Он задерживал девушку, хотевшую купить Горького.
- Восемь рублей, - говорила девушка.
- Тут еще копейки, - говорил он, вставляя свою лиловую голову в страницы. - Копейки...
- Копейки! - закричал я. - Как вам не стыдно! Девушка хочет купить книгу, а вы с копейками!
Он меня просто стал гнать.
- А ты что? Вон! Пошел вон!
Еще бы, стоит старик в оборванной одежде.
- Вон!
Девушка сияла между нами, улыбался Горький.
- Старик, ты на краю гроба, - сказал я, - как же ты... - Вон! Пошел вон!
Он так полиловел, что я думал - умрет. Я ему показался пьяным стариком, христианином, шляющимся, может быть, в запретный с его, еврея, точки зрения час.
- Вон! - услышал я, уже удаляясь. - Вон!
Конечно, театр! Думал ли я, мальчик, игравший в футбол, думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр, что в жаркий день, летом, отойду от киоска, прогнанный, и поделом.
Существовало мнение (в XIX веке), что паук умеет ходить по воздуху. Это верно: нить, которую он прядет, не заметна в воздухе - и кажется, он прямо-таки шагает в пустом пространстве. Что это - паук? Что это за удивительная машина? Попробуйте представить его себе величиною в наши машины - каких только частей вы не увидите, каких только сочленений! И из машины этой тянется вырабатываемая ею нить!
Он похож на восьмерку, этот паук, на грязно написанную кем-то восьмерку!
Иногда видишь весом в несколько тонн муху, повисшую на паутине. Да, да, именно в несколько тонн, если представить себе все масштабы драмы увеличенными до наших размеров.
Синее в серебре тяжкое тело мухи висит в непонятных для нас путах... Как же они крепки, если в дни, когда они еще только прядутся, мы их прямо-таки не видим - только вдруг что-то блеснет!
У входа на Большой Каменный мост - пикет, не пропускающий в ту сторону, к центру, поскольку еще проходят через Красную площадь демонстрации.
На правом фланге пикета начальник его - майор милиции, большого роста, могучего сложения, с длинным, очень интересным, странным для глаза лицом. Не то это артист со следами грима, не то какой-то двойник генералов двенадцатого года. Шитый воротник парадного мундира, синий мундир, розовое лицо, голубые глаза. Хоть и как бы свирепый, но, видно, добрый. Выше всех на голову - не одного человека, а именно всех: всей шеренги, всей толпы, виден со всех сторон, голова большая, с несколько чрезмерно длинным и прямым затылком, придающим ей некую чурбановидность.
Задание его - никого не пропускать. Его осаждают, из которых большинство подвыпившие. Требует показать паспорт. Если живешь в том направлении и близко, пропустит.
Витте приводит рассказ о том, как Вильгельм II, будучи еще наследным принцем, однажды, когда императора Александра III провожали из Берлина, бросился отнимать у казака плащ, который тот держал готовый подать императору. Он сам решил подать его императору!
Это давняя идея поклонения избранному, поклонения вождю, властителю. Идея беспрекословной дисциплины, радостного уничиженного служения старшему.
Василий Васильевич Шкваркин рассказывал мне о так называемом "цуке", как он применялся в Николаевском кавалерийском училище, где он учился. Старший юнкер мог заставить сделать младшего самые невероятные вещи. Младшие вовсе не протестовали, наоборот, с воодушевлением выполняли все нелепости, очень часто доставлявшие им и физические страдания.
- Как же так! - сочувствовал я младшим, - ведь это ужасно! Как же на это соглашались?
- Юра, - сказал Василий Васильевич картавя, - никто ведь не заставлял их подчиняться цуку. Когда юнкер только поступал в училище, его спрашивали, по пуку ли он будет жить или ему не хочется по цуку?
- И он мог не согласиться?
- Боже мой, ну, разумеется, но если он отказывался от цука, то его могли не принять в какой-нибудь приличный полк. Тогда уж на задворки!
Вот и жара. Солнце заходит в абсолютной тишине и неподвижности света, некий штиль небесного океана.
Кинематографисты подхватили кем-то неквалифицированно рассказанную версию, будто бы принадлежащую Эйнштейну, о невращении земли вокруг оси. С покачиванием голов и переглядыванием невежд говорят об этом за столиком "Националя".
Как я постарел! Как страшно я постарел за эти последние несколько месяцев! Что со мной будет? Сегодня ел черешню без обычного ощущения упоения. Даже и эти медленно катившиеся шарики вдруг сразу рванули с места - и догоняй их!
А прежде хотелось сравнивать их - форму, вкус; хотелось воображать воробьев, которые клюют их, думалось, что это дождь - черешня, чуть сладкий свежий - свежий дождь!
Я, кажется, становлюсь графоманом. Ура! В последнее время что-то стало происходить с моим почерком - то я писал одним, то другим: прямым, наклонным, очень наклонным. Иногда я вдруг терял способность писать пером, чернилами. Мог писать только карандашом. И странно, от карандаша почерк становился четким, круглым и прямым, почти откинутым назад, от пера - тотчас же строки начинали становиться грязными, стертыми, отталкивающего вида. И, кроме того, многое исчезало бесследно - буквально слезало с листа! О, какая это была мука!
Затем присоединился факт, еще более расшатавший и без того расшатанную технику писания - я бросил курить. Тут уж совсем разладилась связь между головой и рукой. Казалось, навсегда утрачено то чудо - владение скорописью! От того,
что я писал, не куря, тяжко стучало сердце... Помню, в Голицыне, написав фразу, я вскакиваю, выбегаю на эту дачную, пыльную, зеленую с гусями и козами дорогу. Какая мука! Боже мой,
какая мука! Доходило до того, что я писал в день не больше одной фразы. Одна фраза, которая преследовала меня именно тем, что она - только одна, что она короткая, что она родилась не в творческих, а в физических муках. Казалось, она подернутая рябью, бежит за мной, зацепляется за дерево, разглаживается на шерсти козленка, опять бежит, наклеивается этикеткой на четвертинку. Это был бред, это было разговари-вание с самим собой, мука, жара - некурение и утрата владения письмом...
Что за колдовство все-таки! Почему, когда пишу для себя, пишу легко и хорошо - когда для печати, мусолю, вымучиваю?
Легко представить себе какой-нибудь день во Флоренции или в Венеции в очень давнюю эпоху. Лето, синева неба, золото соборов, статуи... Скажем, тот же Давид на площади Синьории. Возможно, идет через площадь Микеланджело, о котором юный Рафаэль сказал, что ходит "мрачный, как палач". Менялы, солдаты, торговцы, ремесленники, дети, женщины с золотыми сеточками в прическе. Словом - люди, те же люди, ничем не отличающиеся от нас, такие же люди на паре ног, с парой глаз, с парой рук, с соринками, влетающими в ветреный день в глаз, и как те, которые стояли вчера у входа на Большой Каменный мост.
И вот эти люди убеждены, что Солнце движется вокруг Земли. Никому не приходит в голову допустить, что это только оптический обман. Все живут в такой системе мышления, когда Земля именно в центре мироздания.
Что же, считает себя какой-либо князь, от этого невеждой? Или какой-нибудь Пико ди Мирандолла? Или какая-нибудь молодая мать, которая позирует Тициану, считает себя от этого менее счастливой? Менее ли она красива от этого? Еще не проявил великого чуда ориентировки ксендз в Польше. Еще наиумнейшие убеждены, что есть поющие сферы, - что же, думают ли эти люди, сокрушаются ли они о том, как они отстали, на каком низком уровне стоит у них образование? Нет! В том-то и дело, что каждый век рассматривает себя как стоящего на вершине! Так когда-нибудь и на сегодняшний наш день, как я сегодня на день Флоренции, оглянется кто-нибудь и, как я, представит себе, что в ту эпоху - подумать только - люди жили всего пятьдесят лет! Ну что ж, скажет он, разве они были менее счастливы или менее красивы, чем мы, живущие триста лет?
Удивительно, что Савонарола организовал себе помощь из детей. Отряды маленьких доносчиков, конфискаторов, уничто-жателей ценностей. Потом, когда горит костер, в котором, между прочим, погибают и картины Боттичелли, дети и старики пляшут вокруг.
Когда Кеплер предложил издателю свое астрономическое сочинение и тот отказался, последовала реплика Кеплера, которую стоит приводить всегда, когда она ни вспомнится.
"Я могу подождать читателя еще сто лет, - так примерно сказал Кеплер, - если сам господь ждал зрителя шесть тысяч лет".
Другими словами, этот человек счел себя первым зрителем того, алмазного театра, который показывается там, в небе. И ведь это верно - если он первый увидел чертеж, механизм, коллизию этого зрелища, то он и был первым зрителем. До него смотрели, не понимая.
Он был одним из последних астрологов. Между прочим, им был составлен гороскоп для Валленштейна.
Небесные тела, доказал Кеплер, движутся по фигурам конического сечения - кругу, эллипсу, параболе, гиперболе. Ревизовано ли это современной астрономией?
Фразу Кеплера о небесном театре запомнил Делакруа. По всей вероятности, он узнал ее из того же источника, что и я.
Он по другому поводу называет этот источник. Это Эдгар По. У него есть космогония - "Эврика". Там Эдгар приводит фразу Кеплера.
Эта книга "Эврика" - несказанно великолепна, поэтична, гениальна. На полях книги, имевшейся у меня, взятой мною в, библиотеке, то и дело замечания современного читателя, человека, знающего предмет. И замечания эти сплошь подтверждение догадок По, восхищение ими.
Когда я хотел перейти Арбат у Арбатских ворот, чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции.
- Остановитесь.
Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины и в ней особенно яркий среди этой темноты - яркость почти спектрального распада - околыш.
Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЗОЛОТАЯ ПОЛКА
Золотая полка - это та, которая заводится исключительно для любимых книг.
Я давно мечтаю об этом - завести золотую полку. Это та полка, на которую ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется именно полка - никак не шкаф, а именно одна полка, один, если можно так выразиться, этаж шкафа. Где раздобыть такую? Пожалуй, нужно заказать столяру. Почему я ограничиваюсь только мечтой? Что, трудно и в самом деле позвать столяра, потолковать с ним, описать ему, что я именно имею в виду. Нет, все же не зову, и мечта остается неисполненной. Может быть, это происходит потому, что не так легко золотой полке стать реальностью - все же это золотая полка, которых не так уж много на свете. Во всяком случае, я не видел такой ни в одном доме.
Иногда мне представляется простая из четырехугольных форм полка, иногда, наоборот, я вижу кое-какую вычурность - не только кое-какую, пустяк: скажем, какие-нибудь витые столбики по концам.
Может быть, я не завожу этой полки из-за отсутствия в продаже золотой бумаги? Верно, теперь ее не продают... Помню эти золотые с тисненым рисунком листы, которые так украшали детство. Для чего они продавались? Кажется, они применялись при изготовлении елочных игрушек. Лист был величиной в нормальный лист писчей бумаги, и обратная его сторона - в данном случае хочется сказать подкладка - была белая. Белая и какая-то странная - как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть... Как уже сказано, на ней был тисненый рисунок, нечто вроде цветов на замерзшем окне; только цветы либо серебряные, либо голубые, а этот узор был золотой. Но по рисунку это были как раз эти цветы.
Парадоксально - но наиболее замечательные книги, которые мы в течение жизни постоянно перечитываем, забываются, не удерживаются в памяти. Казалось бы, должно быть наоборот - книга, произведшая на нас впечатление, да еще читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях. Нет, этого не происходит. Разумеется, мы знаем, о чем в основном идет в этой книге речь, но как раз подробности для нас неожиданны, новы - не только подробности, но и целые куски общей конструкции. Безусловно, так: замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы заново... И в этом удивительная судьба авторов замечательных книг: они не ушли, не умерли, они сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени.
Шелли говорит, что удивительное свойство греков состоит в том, что они все превращали в красоту - преступление, убийство, неверие, любое дурное свойство или деяние. И это правда - в мифах все прекрасно! Непослушание Фаэтона превращается в огненное падение его коней, в миф о закате. В красоту превращена месть богов по отношению к Ниобее: ее детей уничтожают стрелами - беспощадно, одного ребенка за другим. Как это ни страшно, но событие по-форме прекрасно, в особенности когда мы постигаем, что стрелы - это солнечные лучи.
Тут напрашивается мысль, что искусство, - если художник все превращает в красоту, - где-то в глубине безнравственно. Ведь в самом деле, описывая, скажем, смерть героя, художник заставляет его умирать как можно более выразительно, увсдит это печальное событие в область красоты. Разве это не безнравственно? Не заключена ли безнравственность, например, в предсмертном бреде Андрея Болконского, приобретающем вид воздвигающегося над ним здания иголск, каковой бред есть именно изобретение Толстого в области красоты? В самой попытке изобразить, украсить бред больного не заключена ли безнравственность?
А, может быть, вводя страдание в область красоты, художник тем самым платит страдающему за его муки какой-то высшей ценой?
Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как я прикладываю лицо к дереву - к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо - длинное, в морщинах и что по нему бегают муравьи.
Он был еле виден во мраке своего окошечка, мерцал в нем. Тем более сильно ощущалась виноватость. Он ударял два раза костяшкой среднего пальца по подоконничку, грехи этим отпускались. Я поднимался с колен.
Данте замечательно изображает первое появление ангелов по пути целой группы душ, поднимающейся по чистилищу. Грешники видят их внезапно. Их два. Один спускается пониже, другой остается наверху. Оба садятся на камни. У них такие лица, говорит Данте, что их можно сравнить с мечами, отражающими солнечный свет.
От Чистилища исходит таинственная, ни с чем не сравнимая, поэзия. Об этом я буду еще писать и писать.
(О Данте.) Сперва о нем знаешь только то, что знают все: автор "Божественной комедии", умер в изгнании - на паперти в Равенне, любовь к Беатриче; "горек чужой хлеб и круты чужие лестницы". Ну и, конечно, с детства не покидает воображения фигурка в красном с зубчатыми краями капюшоне, спускающаяся по кругам воронки...
И вот, собравшись с духом, вы начинаете читать, прочитываете, и перед вами - чудо! Вы никогда не думали, никогда не допускали, что это так превосходно, так ни с чем не сравнимо. Вас обманывали, когда говорили вам, что это скучно. Скучно? Боже мой, здесь целый пожар фантазии!
Уже не говоря о точной и нежной поэзии, о грустных фразах, об удивительных эпитетах...
Будем помнить: Данте спускается в ад живой - не в качестве тени, а именно живой, таким же человеком, каким был у порога ада, на земле. Все остальные - тени. Данте - человек. Тень также и Вергилий - проводник Данте по аду. Густав Доре, иллюстрировавший "Ад", впрочем, в рисунке не делает разницы между Данте и тенями. Тени имеют тот же облик, они не клубятся, ничто сквозь них не просвечивает. И сам автор не описывает их как-либо особо, он их только называет тенями в том смысле, что они уже умерли, не люди. Доре, правда, изображает Вергилия чуть могущественнее, чем его гостя, как если бы рядом с человеком стояла, скажем, статуя. Во всяком случае, Данте порой приникает к Вергилию, ищет у него на груди защиты.
Бесы, то и дело попадающиеся на пути Вергилия и Данте в виде отдельных групп - своего рода пикетов, дозоров, - сразу же замечают, что Данте живой, что он человек. У-у, как им хочется его схватить! Однако не решаются: мешает присутствие Вергилия - для них загадочное, не ясное, но какое-то, безусловно, ответственное, властное. Если бы не Вергилий, Данте несдобровать! Данте это понимает и смертельно боится бесов, которые на него прямо-таки ярятся.
И вот оба они, и мертвый поэт и живой, вдруг сбились с пути. Вергилий встревожен, что касается живого поэта, то тот в ужасе: в самом деле, ведь провожатый его в любую минуту - отозванный почему-либо высшей силой - может исчезнуть! Он останется один! Один в аду - где сами имена ужасающи: город Дит, "злые щели"!
Так сказать, ориентиром для Вергилия служил мост. Вот тут он и должен быть, этот мост. Моста, однако, нет. Может быть, с самого начала было взято неверное направление? Пикет бесов - просто подлая пьяная банда - оказывается тут как тут.
- Тут есть поблизости мост? - спрашивает Вергилий.
- Есть! - отвечает один из бесов. Надо помнить, между прочим, что они крылатые. Представьте себе эту дюжину крылатых уродов, которые, отвечая Вергилию, перемигиваются. Да, да, именно так Данте и пишет: они перемигиваются!
- Есть мост! Есть! Вот там! Туда идите!
Моста нет и там (он вообще разрушен), но бесам хочется навести на обоих путников панику, окончательно сбить их с пути. У бесов, кстати говоря, имеются клички. Как у воров и убийц - клички! И они издают похабные звуки. Изображают, говорит Данте, "трубу из зада".
Данте видит эти перемигивания бесов, точно оценивает смысл их поведения - однако что поделаешь! Вергилий следует по пути, указанному бесами, и не находит моста...
У меня нет под рукой книги, и я не могу вспомнить, чем окончилось приключение... Я только приведу ту необычайную мотивировку, которую изобрел автор для объяснения, почему не оказалось моста. Он обвалился во время того землетрясения, которое произошло в аду, когда туда спустился Христос!
Какая мощь подлинности!
Не удивительно, что, встречая Данте на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе:
- О, боже мой, он был в аду!
Мне бы хотелось приблизить этого великого автора к русскому читателю. Конечно, не только из желания оказать ему исключительно, так сказать, информационную услугу, сделать его более образованным, взялся бы я за эту задачу - еще хочется поделиться с ним тем прекрасным, которое сейчас у меня на руках... Что может быть более радостного, чем делиться прекрасным!
Рай, по Данте, - это лес. Переход от Чистилища к Раю незаметен. Вдруг становится светлей и безопасней. Изображен ручей, почти река, которая бежит среди леса. Беатриче появляется на колеснице, запряженной грифонами, в бело-зелено-красной одежде, окруженная старцами. Данте видит все это отраженным в реке. Он встречает ее, стоя на берегу по ту сторону реки. Она благодарит его за то, что он любил ее, но укоряет за суетность, которую он проявлял на земле, - за политиканство.
В аду, по Данте, находятся не только грешники - в нем заключены также и те, кто не близок к Христу в силу, если можно так выразиться, исторической несовременности: черти древности, например. Также и новорожденные младенцы, не успевшие принять крещение, находятся в аду. Но только тот ад невинных - не тот ад, в котором находятся грешники. Это особое место в аду, город Лим, место вечных сумерек, унылого покоя.
В этом городе Лиме помещает Данте также и великих поэтов древности.
Кроме цеховых организаций, к которым мастера прямо-таки обязаны были принадлежать, существовали еще и братства - своего рода вольные союзы мастеров, объединявшихся в данном случае не склонностью к религиозному способу воспринимать жизнь, по любви к благотворительности.
По правилам этих братств, когда умирал кто-нибудь из "братьев", его тело охранялось в течение ночи.
Можно представить себе, как они дули вино в эту ночь!
Сегодня в "Литературной газете" известие о смерти Михаила Лозинского. Он перевел несколько трагедий Шекспира, перевел "Божественную комедию". С его именем у меня связана одна из радостей моей жизни - в его переводе я прочел впервые Данте.
Я не помню, видел ли я его когда-либо. Назерно, видел, знакомился - но не могу восстановить, какой он - Лозинский. Вот он уже в раю. Имею ли я право так распоряжаться? Поэты, кстати, по Данте, пребывают ни в Аду, ни в Чистилище, ни в Раю. Они - нигде, в городе, который называется Лим, среди сумерек. Данте встречает там группу поэтов, среди которых Гомер - "с мечом", говорит Данте.
Вечная память поэту, пересказавшему на другом языке великое произведение!
Я рад, что мое восхищение автором "Божественной комедии" разделяет такой великолепный писатель, как Оскар Уайльд,
Правда, великолепный писатель!
Мне нет никакого дела до его манифеста, который без страха чего-либо потерять можно и не читать.
Он сочинил "Портрет Дориана Грея" о плохом человеке, который неизменяемо оставался молод, в то время как его изображение на портрете превращалось в старика, тем более страшного, что оригинал, как уже сказано, был плохим человеком, совершал преступления.
Он написал сказку "День рождения инфанты" - о трагедии мальчика-карлика, влюбившегося в принцессу, и сказку "Звездный мальчик" - о злом мальчике, который не любил своей матери за то, что она некрасивая, а между тем она, нищенка, была прекрасна душой.
Целый ряд замечательных статей об искусстве (в их числе о Данте) вышел из-под его пера.
Он умер преследуемый обществом, отбывший тюрьму, в нищете, в Париже, снимая жалкую комнату у хозяина, который единственный возложил на его гроб венок, хоть умерший и задолжал ему много по неплатежу за комнату.
Его портрет изображает человека с тяжелым лицом, маленькими глазами - некоего англичанина конца викторианской эпохи. Этот англичанин, между прочим, написал пьесу по-французски - знаменитую "Саломею", где царь, следя за танцем своей приемной дочери, вожделеет к ней, по поводу чего его жена, мать Саломеи, отпускает нелестные для него остроты - хоть с ревностью, но и с высокомерием, с сознанием своей власти над ним.
Нельзя, конечно, говоря об Уайльде - именно о "Портрете Дориана Грея", - не вспомнить об Эдгаре По. Конечно, уайльдовский роман родился из "Вильяма Вильсона" Эдгара. Та же тема добра и зла в виде двойников. Это он, Эдгар, первый решил эту тему таким образом: двойники.
Опять похолодание, северный ветер, тучи - вернее, именно то, что совершенно точно называется "облачностью". Эти не по сезону перемены действуют на психику с такой силой, что, проснувшись в такое внезапно оказывающееся холодным и пасмурным утро, вдруг с раздирающей грустью начинаешь думать о жизни, подводить итоги, ничего не ждешь. Такое сильное действие, как если бы вдруг постарел на десять лет. И вдруг в облачности маленький голубой просвет, и кажется... Нет, еще ничего не кажется, еще нет просвета!
Вчера прогуливался по улице Горького с Ливановым. Его умные мысли о Гамлете. Говорит, - я ведь пять лет работал над этой ролью!
— Возьми Лаэрта, Полония... Какие сами по себе величественные фигуры! А перед Гамлетом они ничто!
— Величественные?
Совершенно правильно он мне ответил, что Полоний вовсе не комический персонаж, ограниченно льстящий, подслушивающий и т. п. Его любил, надо это помнить, покойный король. Что касается Лаэрта, то это, по крайней мере, Сид.
А перед Гамлетом он фат! Не больше как фат! А Горацио? Ведь это Эразм Роттердамский. И Гамлет учит его! Вот кто он такой, насколько он выше всех!
Ливанов снимается сейчас в фильме в роли Ломоносова. Устал, говорит, вчера сжигали мне лицо.
Вот наконец просвет. Только не голубой, так как очень близко к солнцу, а нечто вроде светового пятна, все расширяющегося, все рассветляющегося и вот уже пропускающего сквозь себя пучок лучей...
Деревенский цирюльник дал ему свой тазик, чтобы тот надел его вместо шлема, отыскали какие-то валявшиеся на чердаке латы, копье, отыскали кобылу, о которой сказали, что она окажется великолепным рыцарским конем... Нет, все это не так! Он сам увидел в тазике шлем, латы не отыскивались - он благоговейно поднял их из чердачной пыли, Россинанта он сам выбрал в качестве рыцарского коня. В том-то и дело, что никто не навязывал Дон Кихоту этой мании, скорее он навязал ее окружающим. Во всяком случае, он навязал ее Санчо Пансо.
Густав Доре очень помог популяризации знаменитых книг среди поколений, начинающих жить. Редко кто представляет себе Дон Кихота иначе, чем изобразил его Доре. Или Гаргантюа. Или Ад.
Кто его первообраз? Рембрандт?
Да, ведь он иллюстрировал еще и Библию! И сказки Гриммов! И еще что-то, о чем я сейчас забыл... "Потерянный и возвращенный рай"! Что же, это офорты на меди? Неужели непосредственно иглой рисовались эти потрясающие композиции? Или это сперва рисуется карандашом на бумаге?
Можно представить себе этот Париж, этого мосье Доре, который в домашней куртке, думая о предстоящем сегодня вечером в Фоли Бержере канкане, сидит у рабочего стола с доской, поставленной от колен к ребру стола, и рисует огненную могилу Фаринаты. И Данте с испуганным серьезным вниманием, оглядывающегося на эту могилу. Надо иметь гениальную фантазию, чтобы решить, например, наружность Гаргантюа в том плане, что это толстозадый младенец - не только когда он еще голый и дует в зад своим баранам, но и потом, когда он уже в трико и щупает своих нянек.
Интересно, что мы, писатели, оцениваем Доре выше, чем поступают с ним в этом смысле его собратья художники. Они почему-то морщатся. (Впрочем, это морщился не Пикассо, а доморощенные кубисты.)
Доре получал огромные гонорары. Тысячи франков за доску. А сколько таких досок... да, да, еще и "Потерянный рай"! В "Потерянном рае"!
Очевидно, я привожу неверные цифры. С такими ни одно издание не могло бы себя оправдать.
"...Ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится". (Монтень).
Плохо дело, если ошибки даже в главных словах, которые все время видишь у себя, так сказать, в мозгу. Еще ничего, если выпадают буквы в скорописных словах, а вот, повторяю, дело дрянь, если строят рожи даже и эти слова, которые прежде стояли величественно, как броненосцы на рейде.
Кстати, в этой новой книге не "Монтэнь", а через "е" - "Монтень". На фоне портрета видно начертание "Монтань". Что же - "гора"?
По поводу этой фамилии вспоминаю, что у моей сестры была гимназическая подруга - Ирина де-Монтань Руж... Боже мой, я помню какие-то ее шумные появления у нас в доме, смех, рюш, скидывание перчаток, ха-ха-ха и какой-то взгляд в мою сторону... И все это в облаке сплетни, греха, в облаке ее прелестной и горькой славы содержанки какого-то богача...
Он мудрец, Монтень. Странно читать эти тонкие рассуждения в книге, написанной в шестнадцатом веке! Впрочем, я поддаюсь здесь обманчивому впечатлению, что качество человеческого ума улучшается в прямой зависимости от увеличения календарного счета. Во-первых, этот счет увеличивается не так уж быстро - неполных пятьсот лет от Монтеня, так ли уж это много? - а во-вторых, еще в Греции и Риме были произнесены слова, умнее которых как раз в продвигающемся вдаль календаре времен, может быть, и не было сказано.
Очевидно, развивается только ум, касающийся овладения материальным миром, - техника, наука. Ум, касающийся овладения самим собой, не изменяется.
Для Монтеня то, что мы называем словом "Эгмонт", - недавняя трагедия, разыгравшаяся в Брюсселе... Может быть, не так уж это и давно было? Может быть, именно то, что отрубали головы, а не, скажем, расстреливали, относит некоторые события на более дальние расстояния в нашем представлении?
Монтень приводит примеры тех случаев, когда люди перед лицом смерти с ничем не поколебнмым самообладанием дают распоряжения о том, как поступить с их телом. Так Жижка, вождь чехов, требует, чтобы, когда он умрет, сняли с него кожу и натянули ее на барабан. Император Максимилиан, отличавшийся при жизни крайней стыдливостью (никогда при слуге не ходивший за нуждой, говорит Монтень), распорядился надеть на его труп подштанники (может быть, он был гермафродит?). Соображение, возможно, справедливое: император был очень красив - "отличался необыкновенной телесной красотой", - говорит Монтень. Приводятся также примеры, когда тщательно составляется ритуал собственных похорон.
Монтень мало проявляет себя как человек верующий. Хотя бы в этих рассуждениях о том, что будет после смерти, он меньше всего говорит о душе. Это тем страннее, что эпоха, окружавшая его, не только то и дело напоминала о религии, а еще и наполняла сознание устрашающей стороной религии.
В главе "О запахах" Монтень позволяет себе великолепную шутку о том, что в молодости он приносил домой на своих пышных усах поцелуи.
Я думал, что Монтень - это высокие овцеподобные парики, икры, обтянутые чулками, кривые башмаки. Нет, это гораздо раньше! Это вскоре после Варфоломеевской ночи. Он, как уже можно понять, с усами, в колете, без какого бы то ни было парика; наоборот, лысый. Тогда уж совсем поразительно! У нас - Иоанн Грозный, может быть - Годунов...
Я его еще не читал, только прочел несколько страниц. Уже, кажется, надо сказать, создается впечатление, что энциклопедисты начались с него...
Как страшно сказал Монтень о том, что если вы прожили год и видели смену времен - зимы, весны, лета, осени, - то вы уже все видели! Ничего нового вы уже не увидите!
Это похоже на то, как говорил Ильф, - "идемте, здесь больше уже ничего не покажут".
Между прочим, мне уже, кажется, ничего не покажут. Например, я почувствовал, что та продолговатость во времени, продолговатость вдаль, с которой всегда воспринималась поэзия, теперь исчезла. Она стала закрытым кругом. Также не ощущаю я и продолговатости истории, когда читаю, например, о Наполеоне.
Впрочем, возможно, усталость, отсутствие чистого воздуха. Когда заговорщики душили Павла, он вдруг увидел одного в конногвардейском мундире, он решил, что это сын, Константин. Он закричал:
- Пощадите, монсиньер! Воздуху! Воздуху, монсиньор!
Это не был сын.
Этот Константин странная личность. Герцен пишет, что он нравился солдатам, народу. Он сам признается, что после смерти Александра, когда он видел Константина шагающим по коронации рядом с Николаем - втянув уши в плечи, в желтый воротник литовского полка, - то он видел в нем своего героя. Тут же он восклицает, что герой его был очень дурен собой, такого даже и в Ватикане не сыщешь (в галерее статуй римских императоров времен конца).
Затем этот роман Константина с Польшей. Он, например, аплодировал польским войскам под Остроленкой, бившим русских. Потом брак на польке.
Он умер от холеры. Поляки называли его "старушек".
Стоит обратить внимание на то, что Монтень, кроме всего, еще и поэтический критик. То и дело встречающиеся у него цитаты из римских и греческих поэтов свидетельствуют не о схоластической начитанности, не о желании автора отдать дань увлечению именно классицизмом, а о том, что автор искренне любит поэзию. Он ее и оценивает с исключительной тонкостью! Вот бы и мне написать такую статью, в которой мотивированно, а значит, и увлекательно для читателя нашли бы место цитаты из русских поэтов - не одна, не две, а целая река цитат! Я бы привел поразительные строки из Есенина:
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Две первых строчки еще не представляют собой чего-нибудь исключительного; наоборот, они могли бы встретиться у другого поэта - мять цветы, валяться на траве, целовать женщин и быть от этого счастливым, - тут еще никакой поэтической глубины, это обычно. Но считать себя счастливым от того, что не бил зверей по голове, - это необычно, это может открыть нам в нас только поэт. И только поэт может назвать зверей нашими младшими братьями.
Сколько еще хотелось бы привести подобных цитат! Нет ничего приятней, кстати, чем делиться с кем-либо красотой, чем указывать читателю на те или иные красоты, которые он по неопытности, да, наконец, просто по незаинтересованности, может и не заметить.
Он жил до Наполеона. Интересно, что бы он высказывал о нем? А, что "если" - это детское слово, игра!
Совершенно прелестная статейка о Катоне, цель которой устроить, как говорит Монтень, соревнование между четырьмя поэтами, восхвалявшими Катона. Он приводит четыре стиха, с большим искусством комментируя их.
Меня иногда тянет сделать примерно то же - найти повод, чтобы привести ряд замечательных русских строчек. Обратить на них внимание всех. Я это не забываю сделать, где только предоставляется возможность. И сейчас сделаю это. Какое, например, Мандельштам находит определение для полуострова в стихотворении, где перечисляются как раз эти географические формы:
И полуостровов воздушны изваянья.
Мне кажется, это очень хорошо - сравнить полуостров с изваянием. Вспомним, Микеланджело хотел сделать статую именно из скалы... Также у Данте в Чистилище изображен высеченный в скале барельеф.
Кстати, Монтень упоминает о царе древности (Камбиз?), который в гневе вызвал на поединок скалу.
Читал "Вертера" и горько рыдал, вспоминая и свою жизнь. Странно, я был молодым! Его видишь - высокий, в синем фраке, в сапогах, в желтых панталонах. Гуляя, вернее - мечась, ночью, в бурю, по окрестностям, потерял шляпу. Ездит верхом. Что-то зрительно вроде, как мне кажется, Ленского. Нет, это просто провоцирует лошадь и сапоги. И тогда почему Ленского, а не Онегина? Нет, глупо.
Написано великолепно. Не роман в письмах, а сборник писем одного к другому - Вертера к Вильгельму. Вдруг незадолго до гибели вмешивается текст издателя, мало чем отличающийся от текста Вертера. Все чуть-чуть натуралистично, особенно последняя сцена. Сама по себе ситуация очень отдельная, натуралистическая, поэтому единственная в своем роде, фотографическая. Не обобщено. Между тем, при том, что в основе любовь, страсть, поэзия, хотелось бы обобщения.
Словом, что там говорить! Превосходно!
Бонапарт возил "Вертера" в итальянскую кампанию в походном сундуке. Можно себе представить, какой это имело успех!
Упоминается Оссиан: Вертер его читает вслух Лотте. Мне было читать скучно. Что была за мода на Шотландию? Вальтер
Скотт, Оссиан... И тут же любовь и вкус Бонапарта к Оссиану. Туманная пелена, бегущая луна, большие женщины с распущенными волосами.
- Любимая, уже написан Вертер!
Попробуем от руки. Кстати говоря, и в эпоху, когда писал Гоголь - нет, пожалуй, позже - ну, скажем, в эпоху Герцена, уже пребывавшего в Лондоне, можно было услышать обсуждение, кто чем пишет. Один говорил, что пишет, конечно, стальным пером! Другой: "что вы, что вы! Я только гусиным! Разве можно что-нибудь написать стальным?" Словом, подобно тому, как теперь обсуждают - рукой или на машинке. Как будто "это важно"! "Разве пишут рукой? - спросил Мике-ланджело, - пишут головой!"
Интересно выяснить, когда он и на самом деле состоялся, этот переход на стальное перо! Скажем, пером писал, например, Стендаль? Гюго? Лев Толстой - чем начал, гусиным?
Как оно выглядело? Где впервые появилось? В Бирмингеме?
Гусиные перья, это мы забываем, тоже не представляли собой некоей, так сказать, стихийной вещи - наоборот, это были в некоем роде фабричные изделия: их оттачивали специальные мастера, придавали им удобную и простую внешность - чуть ли не коротких, величиной в наши автоматические ручки, трубочек без всяких именно перьев на концах.
Совершенно неважно, разумеется, чем пишешь. Ведь можно и диктовать! А когда из уст великого человека вылетают какие-либо образы - ведь он их не пишет; они - в воздухе!
Правда, иногда ощущаешь связь между рукой и головой в связи с белеющей перед тобой страницей. Правда, письмо рукой - это письмо, если можно так выразиться, цепью; это бог... Что касается работы на машинке, то я каждый раз затрачиваю много силы на то, чтобы приподнять и передвинуть всю махину; возможно, это влияет на ход работы - скорее надоедает, скорее чувствуешь желание отдохнуть...
Я знал нескольких графологов. Один, по фамилии Зуев-Инсаров, промышлял своим искусством, сидя за столиком в кино "Уран" на Сретенке. Очень многие из пришедших в кино и прогуливавшихся пока что в фойе останавливались у столика и заказывали графологу определить их характер по почерку. Зуев-Инсаров, молодой, строгий брюнет в черном пиджаке и, как мне теперь кажется, в черных очках, писал свои определения на листках почтовой бумаги.
Он и мне тогда составил характеристику - по-моему, правильную.
Кое-что из этого искусства я начал постигать. Мне, например, понятно, что если человек, быстро пиша, не забывает неведомо для себя проделывать удивительные по сложности соединения отдельных букв в единый, если можно так выразиться, полет, то такой человек, очевидно, обладает умением организовывать... У поэтов такие соединения бывают чрезвычайно красивыми. Приглядитесь к почерку Пушкина - кажется, что плывет флот!
Понятно также, что если каждая буква стоит отдельно, то обладатель почерка - высокого о себе мнения. В самом деле, даже в скорописи человек успевает бросить каждую букву отдельно, как бы помня о каждой, как бы очень ценя каждую. Образец такого почерка есенинский. Я видел зелеными ализариновыми чернилами переписанные им самим строфы. Каждая буква округла, почти кружок - каждая отдельно зеленеет на белой бумаге, как куст на снегу.
Другого графолога звали Веров. У него была косая бородка, он был всклокоченный, нищий... Он мне сказал, что если ему дадут даже листок, напечатанный на пишущей машинке, то и то он определит характер печатавшего. Сказал также, что по почерку он может определить не то что характер, а сколько у человека комнат в квартире.
Я не помню, при каких обстоятельствах я увидел первую пишущую машинку. Возможно, что это чудо уже стало более или менее привычным к тому времени, когда я уже мог заглядывать в окна. Во всяком случае, не помню какого-либо дня удивлений и восклицаний по поводу этой машинки.
Возможно, что я увидел ее в окне пароходства Трапани, на углу Карантинной и Строгановского моста. Тогда это называлось только одним именем - Ремингтон. Барышня, умевшая работать на машинке и продававшая этот свой труд, называлась ремингтонистка. У Льва Толстого в Ясной Поляне одна из комнат так и называлась - ремингтонная. Там печатались, так сказать, "на машинке" "Воскресение", "Хаджи-Мурат", "Живой труп", "Диавол" и многое другое. Ничего себе, пища для первых шагов этого маленького Молоха!
Что-то не помнится, чтобы появление пишущей машинки в какой-то степени было предсказано, как это бывает с другими чудесами в этом роде. Также, пожалуй, не было предсказано и появление кинематографа. С кинематографом тоже связано имя Толстого. Он относился к изобретениям с одобрением, даже, как говорят, хотел написать для какой-то тогдашней фирмы сценарий. Смотрите, каким он был новатором! Кстати, на заре своего появления кино запечатлело из очень немногих именно Льва Толстого - как бы благодаря за поддержку. Как бы там ни было, хвала! Мы можем видеть сквозь трепет тогдашней съемки, почти что сквозь какую-то неисчезаюшую рябь воды, экипаж Толстого, подкатывающий к вокзалу, и в этом экипаже господина в черном сукне, в черной шляпе с огромным количеством седины на этом сукне и вокруг лица... Это Лев Толстой... Бегут студенты, карабкаются на столб. Все усиленно, по воле бегущей ленты, машут локтями - Толстой, Софья Андреевна, студенты, городовые... Экипаж щегольски заворачивает, и все исчезает... Подумать только, что я мог бы увидеть и живого Толстого. Почти мои сверстники его видели. Одна дама рассказывала, как однажды, когда она была девочкой, они ехали с мамой в трамвае, и об одном сидевшем впереди старике мама прошептала, что это Толстой... Трамвай шел по теперешней Кропоткина - по тогдашней Пречистенке. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая. И дама говорит: - Пока он шел к выходу, весь трамвай стоял.
Стоя написать рассказа нельзя. А я ведь чаще всего пишу стоя. Впрочем, Гоголь писал именно стоя. Анненков чудесно вспоминает о встречах с Гоголем в Риме в то время, когда писались "Мертвые души". Он как раз написал главу о Плюшкине - ту, следовательно, где сад, где береза, как сломанная колонна, где упоминание о красавице именно третьей сестре, где доски моста, ходящие под проезжающим экипажем, как клавиши... Гоголь, вспоминает Анненков, был в восторге от написанного - и вдруг пустился по римскому переулку вприсядку, вертя над головой палкой нераскрытого зонтика.
Гоголь писал, стоя за конторкой.
Как они, Гоголь, Пушкин, заслонили собой почти всех, кто писал одновременно! Того же Анненкова, Аксаковых, еще многих, которые заслонены для меня и до сих пор... Боже мой, Герцена! Герцена, который писал, что у Николая был быстро бегущий назад лоб.
Герцен писал великолепно (в чисто изобразительном смысле). Тут я найду цитату, где описана старая простуженная обезьяна, жившая в детстве Герцена, на углу печки.
Из книг, посвященных обзору собственной жизни, разумеется, самая лучшая "Былое и думы". Какая удивительная книга написана на русском языке! Эстетической оценки ее как будто нет в нашей критике.
Великие фигуры Пушкина, Лермонтова, Гоголя заслонили от нас целый ряд писателей тех времен. Заслонили и Герцена (я как раз говорю об эстетической стороне).
(Читая Толстого.) Я никогда не вижу наружности Андрея Болконского. Он, по Толстому, красивый брюнет - маленького роста, с маленькими руками. Впечатления нет. Безухой толстый, большой, в очках. В сцене гнева он схватывает с умывальника мраморную доску и готов убить того, против кого гнев. Физическая сила. Впечатление есть. Вероятно, он в коротких панталонах и в чулках. Углы воротника возле щек. Наибольшее впечатление от Сперанского. Неприятный смех, белые руки. И это его "нынче хорошее вино в сапожках ходит", - когда, закупорив невыпитую бутылку, уносит ее от гостей. По силе подлинности обед у Сперанского, может быть, первая картина в романе.
Как теперь читают "Войну и мир"? Мы, я помню, постепенно приходили к этому сроку - по лестнице, что ли, возраста. "Тебе нужно прочесть "Войну и мир", - говорил кто-то. Я прочел ее в эпоху первой любви. Хотелось, чтобы девушка, которую я любил - вся в лунном свете (о, можно было отдельно взять в руки волос ее локона и отдельно легший на него луч!), - и хотелось, чтобы она "не изменила" мне, как Наташа "изменила" Андрею. Она как раз изменила! Я из "Войны и мира" вырвал пучок страниц - тех, где любовь Наташи к Андрею и похищение ее Анатолем, - и послал ей: чтобы успокоить ее. Удивительно, ведь это и в самом деле было в моей жизни - я со всей верой допустил, что человека можно успокоить литературой!
Прочитав, например, записки Шаховского о первых днях в Москве после того, как оттуда ушел Наполеон, чувствуешь, что чего-то не досказал Толстой, не передал каких-то особенностей того года, тех дней, того стиля. Все это было более картинно, как все древнее. Вот именно, это было более, если можно так выразиться, старинно, более древне, более отодвинуто в сказочное...
Мне кажется, что Толстой сделал неправильно, избрав героем Левина, как он есть, с его мудрствованиями, антигосударственностью, поисками правды, и не сделав его писателем. Получается, что это просто упрямый человек, шалун, анфан-террибль, кем, кстати говоря, был бы и сам Толстой, не будь он писателем. Иногда Левин кажется самовлюбленным, иногда просто глупым... Все это оттого, что он не писатель. Кто же он в самом деле, если не писатель? Такой особенный помещик? Что же это за такой особенный помещик? Если он умен, философ, видит зло общества, то почему же он не с революционерами, не с Чернышевским - почему он, видите ли, против передового (а ведь Левин, честно говоря, не очень сочувствует освобождению крестьян)? Если он умен, то почему же он не писатель, не Лев Толстой? Кто же он? Чудак? Просто чудак?
Как обстоит дело у Толстого с имущественным отношением к жизни? В ранних дневниках нет каких-либо свидетельств, которые говорили бы о пренебрежении его к материальной стороне существования. Скорее, он был скуп. Что это за приходо-расходы в дневнике великого человека? Есть высказывание Толстого о Наполеоне, где он снижает величие последнего, ставя ему в вину именно его приходо-расходность, "суетливость" - как он определяет. Замечает ли Толстой, что и у него не кристальная сущность в этом смысле? Брат его был кристальным, Николенька, не суетливым, без имущественных оценок жизни. Вспомнить только, сколько нравственной работы стоило Толстому так называемое опрощение, отказ от издательских прав... В самом деле, почему должна была возникнуть особая роль жены, с которой ему пришлось бороться? Если, хотел опроститься, то и сделал бы это - так уж ли это трудно! С самого начала жил бы так, чтобы не нужно было опрощаться, отказываться от чего-то. Это необязательно? Верно, необязательно, но и необязательно в таком случае ходить вокруг да около того, что тебе не достижимо, чего ты не можешь!
Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом чудо, и есть поэтому чудеса техники или медицины, так могут быть определяемы тем же словом и высшие достижения литературы - таким образом, можем мы говорить и о чудесах литературы.
К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных стен ущелья солдаты, была похожа" на реку. Она текла над головами солдат, как река, эта темная мерцающая бесконечностью звезд полоска.
Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтоб показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеет так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое.
Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали - Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился.
Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делбм, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке, - входит автор "Войны и мира", ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться.
Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств "Войны и мира" - это то, что Пьер Безухоз, никому не открывавший своей тайны (любовь к Наташе), открывает эту тайну пьяному и пошлому оккупанту в горящей Москве... Именно так: они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалю о своей любви. Майор, как ни пошл, ни пьян, как ни груб (в результате того, что в данном случае еще и завоеватель), относится с пониманием к тому, что говорит Пьер, понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви.
- Да, да, - восклицает он, - ле нюаж! Облака!
Если бы я делал сценарий для фильма "Война и мир", я начал бы с этой сцены: Рамбаль и Пьер в чужом доме, начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Эти "нюаж" и были бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года - изображения Наташи и всего, что связано с ней.
Странно, что существует на виду, так сказать, у всех стиль Толстого с его нагромождением соподчиненных придаточных предложений (вытекающие из одного "что" несколько других "что", из одного "который" несколько следующих "которых"), по существу говоря, единственно встречающийся в русской литературе по свободе и своеобразной неправильности стиль, - и до сих пор, одновременно с требованием, направляемым к молодым писателям, писать так называемо правильно, никто не дает объяснений, почему же Толстой пишет неправильно? Необходимо было бы (и странно, что до сих пор этого не сделали) составить диссертацию о своеобразной "неграмотности Толстого". Кто-то заметил, что Толстой знал о нарушениях им синтаксических правил (то и дело он говорит о том, что у него "дурной слог"), но вовсе не ставил себе в необходимость избегать этих нарушений - он писал так, сказано в этом замечании, как будто до него никто не писал, как будто он пишет впервые. Таким образом, и стиль Толстого есть проявление его бунта против каких бы то ни было норм и установлений.
Согласие на синтаксические неточности дало ему возможность легче справляться с трудностями изложения мыслей и описания вещей или обстоятельств; другие писатели эпохи Толстого были чрезвычайно связаны запрещением, например, допускать соподчиненные "что" или "который"; оставаясь в рамках синтаксиса, они искали других путей для составления фразы, и тем значительней их работа, что они эти пути находили. Впрочем, так ли уж важен синтаксис, когда пишет Толстой. Только он, кстати говоря, и писал этим своим толстовским, неправильным языком, и никто этой манеры не позволил себе унаследовать.
Что он в конце концов проповедует, когда поет гимн косьбе? Я должен косить. Почему? Я должен изобретать анализ бесконечно малых, сочинять музыку Бетховена, а не косить.
Он проповедует не что иное, как гимнастику.
Зачем я все это пишу? Чистая графомания! Он рассказывал о "Сиде", в котором мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен "двух царей". Другой сказал бы "трех". Тут строгость вкуса. Это не цари, конечно, - вероятно шейхи или в этом роде, но по-французски и для него, Родриго, - цари, и хорошо, что "цари", великолепней, четче, точнее!
Об этих деталях. Мне кажется - и эта мысль мне доставляет удовольствие, что я замечаю у других художников некоторые детали, мимо которых другие наблюдатели проходят, но это детали, бывшие для художников тоже очень важными, тоже для них очень заметными. Вот я думаю, например, что "два царя" были приятной, очень важной деталью для Корне-ля. У меня есть подтверждение того, что моя перекличка с художниками имеет в этом смысле место. Так, я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность "веком преступлений". Никто не выделял этой фразы в сценарии, выделял ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплином в Лондоне, режиссер Герасимов вдруг при мне же, не зная, что это мне близко, говорит, что Чаплин, по его словам, и весь фильм поставил ради этой фразы.
(Тургенев.) Какая вершина художественности "Живые мощи"! Что за рассказ! Весь в том колорите солнца, смешанного с темнотой помещения, который и есть - лето; весь в описаниях летних вещей и обстоятельств - меда, ос, лучей, лесных животных. Там и сон, о котором рассказывает Лукерья, летний - смерть с желтыми глазами появляется на ярмарке. Но лучшее в рассказе - это внезапная радость, охватывающая Лукерью, когда она вспоминает, как однажды вбежал в ее мученическую келью заяц. Сел на задние лапы, посидел, поглядывая на нее...
Как офицер! - говорит Лукерья, вспоминая красоту свою, вспоминая любовь.
Чехов восторгается тем, как изобразил Тургенев конец Базарова. Нам трудно дать себе отчет о первом, свежем звучании этой повести, где изображен нигилист - причем изображен так обаятельно.
- Аркадий, не говори красиво!
Это было сказано впервые... Повторенное тысячи раз и повторяемое до сих пор, это было сказано тогда - подчеркнем себе - впервые.
Самоотверженная любовь к науке, приводящая к гибели героя, повторяется потом, кстати говоря, и у Чехова: смерть Дымова в "Попрыгунье". Не под влиянием ли того восхищения, которое вызвал у Чехова конец Базарова?
У Пушкина есть некоторые строки, наличие которых у поэта той эпохи кажется просто непостижимым.
Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать...
"Кудри наклонять" - это результат обостренного приглядывания к вещи, несвойственного поэтам тех времен. Это слишком "крупный план" для тогдашнего поэтического мышления, умевшего создавать мощные образы, но все же не без оттенка риторики - "и звезда с звездою говорит".
Не есть ли это воспоминание о портретах Брюллова - это "кудри наклонять"? Или передача того мгновенного впечатления, которое получил поэт, посмотрев на жену, которую знаем мы в кудрях? Во всяком случае, это шаг поэта в иную, более позднюю поэтику. Ничего не было бы удивительного, если бы кто-либо даже и знающий поэзию стал бы не соглашаться с тем, что эти два стиха именно Пушкина. Что вы! Это какой-то новый поэт! Блок?
Мы имеем, в конце концов, право выбрать из всего Пушкина строки, которые нам нравятся более всего.
И пусть у гробового входа...
Пять раз подряд повторяющееся "о" - "гробового входа". Вы спускаетесь по ступенькам под своды, в склеп. Да, да, тут под сводами - эхо!
При одном счастливом прочтении строчек "Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей!" я заметил, что слово "Орфей" есть в довольно сильной степени обратное чтение слова "Европы". В самом деле, "евро", прочитанное с конца, даст "орве", а ведь это почти "орфе"! Таким образом, в строчку, начинающуюся со слова "Европы" и кончающуюся словом "Орфей", как бы вставлено зеркало!
Мы еще не умеем читать, но эту книгу уже держим в руках.
Когда я был ребенком, Пушкина издавали, как и теперь иногда - в виде однотомника. Тогда это была размером в лист, толстая книга с иллюстрациями - они были расположены по четыре на странице в виде окна, что ли, пожалуй, именно в виде окна, где каждая створка - картинка.
Были иллюстрации и во всю страницу. Например, плавучая виселица к "Капитанской дочке". О, как было страшно смотреть на эту иллюстрацию!
Николай эпохи Пушкина вовсе не такой, как изображают в иллюстрациях, в кино, на сцене. Он был без усов. Есть бюст работы Витали, современный Брюллову, Пушкину, Глинке, где Николай изображен с резко выраженным именно безусым римским лицом. Усы, по всей вероятности, появились позже - когда они появились в Европе. Так что образ Николая, выкатывающего грозный глаз из-за уса, безусловно, придуман для усиления образа "загнанности" Пушкина.
Может быть, лучшие строчки поэта, написанные на русском языке, это строчки Фета:
В моей руке - какое чудо! -
Твоя рука.
Там дальше - "а на земле два изумруда, два светляка", - но довольно и этих двух!
Между прочим, в тех такой старый и такой обобщенный смысл, что их можно взять эпиграфом к любой книге, где действуют люди. К "Войне и миру", например, к "Божественной комедии".
Он сидит на портрете, похожий на еврея, даже на раввина, с неряшливой бородой, в которой, кажется, он скребет пальцем.
Странно представить себе, что это великий русский лирик. Он был кирасиром, охотником на медведя. Это у него на охоте медведь нанес раны Льву Толстому.
За фигурами Пушкина и Лермонтова скрыт Фет. Между тем он не меньше - как лирик, просто он писал иначе.
Какие замечательные фамилии в пьесах Островского. Тут как-то особенно грациозно сказался его талант. Вот маленький человек, влюбленный в актрису, похищаемую богатыми. Зовут Мелузов. Тут и мелочь и мелодия. Вот купец - хоть и хам, но обходительный, нравящийся женщинам. Фамилия Великатов. Тут и великан и деликатность. Перед нами соединение непосредственности находки с отработанностью; в этом прелесть этого продукта творчества гениального автора; фамилии эти похожи на цветки...
Вдову из "Последней жертвы" зовут Тугина. Туга - это печаль. Она и печалится, эта вдова. Она могла бы быть Печалиной. Но Тугина лучше. Обольстителя ее фамилия Дуль-чин. Здесь и дуля (он обманщик) и "дульче" - сладкий (он ведь сладок ей!).
В самом деле, эти звуки представляются мне грядкой цветов. Может быть, потому, что одному из купцов Островский дал фамилию Маргаритов?
От "Фрегата „Паллады"" у меня осталось упоительное впечатление отличной литературы, юмора, искусства. Я уж не говорю о самом материале романа - о том, как изображено в нем кругосветное путешествие: оно изображено настолько хорошо, что хочется назвать эту книгу лучшей из мировых книг о путешествиях.
Он имел свою каюту, Гончаров. На острове Мадейра его носили на носилках под палантином, и он пил, как он подчеркивает, настоящую мадеру.
Как сильна наша литература, если такой великолепный писатель, как Гончаров, ставился литературными мнениями и вкусами чуть ли не в конце первого десятка!
В "Обломове" изображена женщина, у которой утомленный своим безумием герой (а лень и бездеятельность Обломо-ва вовсе не "национальны", а характеризуют его как именно душевнобольного, каким, как известно, был и сам автор) ищет успокоения. Эта женщина - замечательная фигура, и ее, как мне кажется, повторил Толстой, изображая жену того офицера в "Хаджи-Мурате", в которой рождается вдруг влюбленность по отношению к Хаджи-Мурату.
Воспоминания А. Панаевой написаны по-детски, в писательском отношении очень слабы. Так пишут письма, ни одного ясного портрета. Лучше других получился, пожалуй, Тургенев. Она к нему относится недружелюбно. Насколько лучше, кстати говоря, изобразил Тургенева, например, Кони (сцена в Париже, в доме Виардо, когда Тургенев собирается идти завтракать - в каком-то прохудившемся, к удивлению автора воспоминаний, пальто с недостающими несколькими пуговицами).
В нее, судя по тому, что она пишет, был влюблен Добролюбов! Умирая, просит ее, чтобы она положила ему на лоб руку.
В воспоминаниях есть появление Гоголя. Перед ним на обеде стоит особый прибор, особый розовый бокал для вина. Почти ничего не произносит, молчит - потом уходит спать.
Гоголь для всей группы (Некрасов, Тургенев, Панаев) почти патриарх. Между тем ему нет сорока. Сколько ж им в таком случае?
У Гоголя в "Вие" об отце панночки сперва сказано, что ему сорок лет. В другом месте о нем Гоголь говорит:
- Старец заплакал.
Не может быть, чтобы даже молодой Гоголь считал сорокалетнего человека старцем. По всей вероятности, он забыл, что дал отцу панночки всего сорок лет.
Известие Панаевой о богатстве Некрасова воспринимаешь все же как неожиданное. Он был очень богат. Вернувшись после игры, сообщает Панаеву, что от сегодняшнего выигрыша у него осталось только тридцать тысяч - а был в выигрыше около полутораста!
После обеда шел одеваться, чтобы ехать в клуб. Ездил в карете.
Воспоминания И. Панаева о той же эпохе и тех же лицах написаны неизмеримо выше: по-мужски, по-писательски.
Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман из собрания сочинений этого писателя, изданных "Нивой". Я стал читать этот роман - некую историю о денежно-наследственной неудаче в среде не то чиновничьей, не то профессорской... Бойко написано - но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки... И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает комната - и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке...
Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же, "нивского" издания
сочинений Достоевского. Страницы были из "Идиота".
Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:
- Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов?
Нет! Кто же?
И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны... И вот еще раз оно в другом месте! Кажущееся лиловым имя, от которого то тут, то там вздрагивали
строчки!
Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!
Иногда Рогожин мыслит не менее "по-барски", чем Мышкин. Купеческое, простонародное исчезает. Когда Мышкин рассказывает ему о "глазах", смотревших на него на вокзале. Рогожин спрашивает:
- Чьи же были глаза-то?
Уж очень это в соответствии с бредовым (в данном случае) мышлением Мышкина - "чьи глаза?".
Он не должен был здесь спрашивать. Поскольку это действительно он смотрел на князя на вокзале, то правильней было бы, если бы он промолчал; может, испугался бы.
Впрочем, великий художник всегда прав.
Между прочим, работая сейчас над репликами для той или иной сцены моей переделки, я иногда ухожу, если можно так выразиться, по строчке в сторону от того, как предложено Достоевским. Ухожу довольно далеко (мне в таких случаях кажется, что я добиваюсь большей театральной выразительности) и каждый раз, как бы ни думал, что ушел правильно, все же возвращаюсь обратно к покинутой строчке Достоевского. Он всегда оказывается более правым!
В парикмахерской Дома литераторов встретил человека, которого внешне знал давно и который оказался тем самым заместителем директора Вахтанговского театра, от чьего имени я и получил письмо. Сказал, что Ремизова приехала и что в отношении "Идиота", насколько он знает, все остается по-прежнему. Сегодня, значит, должны быть от Ремизовой сведения.
Если дело завяжется, придется достать "Идиота" и быстро прочесть. Достану у Казакевича.
В дневниках, задуманных специально для того, чтобы из них получилось нечто такое, что будет вскоре печататься и представит для читателя интерес, есть что-то глуповатое.
Лучший из дневников - это дневник некоего Пигафетты, секретаря, что ли, экспедиции Магеллана. Собственно, это мореходные записи, в которых имеются и личные переживания. Между прочим, этот Пигафетта записывает, как однажды, когда все спустились на берег для встречи с туземцами, которые пришли производить обмен, у него не оказалось ничего такого на руках, за что можно получить дары туземцев - никаких стекляшек или чего-нибудь в этом роде. Однако у него имелась игральная карта - валет. Товарищи над ним смеялись (очевидно, накануне шла игра в карты, Пигафетта проигрался, стдал все "драгоценности", которые были приготовлены для обмена, и потом поднял с пола карту...). И вот этому Пигафетте за его валета дали больше, чем остальным, - чуть ли не корову, кроме кур и овец. Как этот валет показывает нам весь колорит корабельной жизни этих открывателей!
Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским (пишу инсценировку "Идиота"). Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему - люблю, не люблю.
Основная линия обработки им человеческих характеров - это линия, проходящая по чувству самолюбия. Он не представляет себе более значительной силы в душе человека, чем именно самолюбие. Это личное, мучившее его качество он внес в человека вообще - да еще и в человека - героя его произведений... Нельзя себе представить, чтобы Ганечка, столь мечтающий о разбогатении, не полез в камин Настасьи Филипповны за горящими деньгами. Тем не менее он хоть и падает в обморок, но не лезет. Наличие самолюбия, более сильнсго, чем жажда денег, восхищает Настасью Филипповну.
Впрочем, повалить в обморок здорового и наглого мужчину и как раз на грани исполнения мечты - это очень хорошо, очень изобретено!
Я ждал, как будет реагировать Настасья Филипповна на это падение Ганечки, так сказать, житейски. Она восклицает:
- Девушки, дайте ему воды, спирту!
Тоже очень хорошо! С каким недоуменным презрением отнесся бы автор к моему похваливанию! Однако в письме к княжне Оболенской (просившей у него разрешения переделать в пьесу "Преступление и наказание") он пишет, в ответ на ее похвалы, что ради вот таких отзывов писатели, по существу, и создают свои произведения.
Н. Н. Вильям-Вильмонт говорил мне, что в замысле "Идиота", как свидетельствует сам автор, присутствовала также и тема Данте (хождение по кругам ужасов). Я еще ничего не читал по "Идиоту", не читал также уже имеющихся многих инсценировок - прочту потом, когда закончу инсценировку. Мне кажется, что так правильней: решить все с ходу, на свежий глаз, непосредственно, доверившись собственной фантазии.
Повторяется ли еще у кого-либо из русских писателей такой же колорит, как у Достоевского? Нет, он ни на кого не похож, Достоевский (пока что я говорю только о внешнем колорите)! Он желто-лиловый, он весь как комната Сони - которая была без углов, только одна неизвестно откуда идущая и куда уходящая стена. Вероятно, желтая - ведь мы видим ее только вечером при свече; вероятно, лиловая - ведь она наполнена платьем девушки из шелка и с тюрнюром!
Гане - двадцать семь лет. Чувствуются намеки на то, что он красив, щеголь. В сцене у Настасьи Филипповны он, разумеется, во фраке. Что за фраки той эпохи? И вообще, щеголь той эпохи - что это? Где будет искать материала Акимов, который, по всей вероятности, будет декоратором спектакля?
Настасья Филипповна, по всей вероятности, одета так же, как и Анна Каренина. Так ли это?
Петербург "Идиота" это совсем не Петербург "Анны Карениной". Ничего нового я не скажу, что первый фантастичен, второй реалистичен. Однако и Достоевский вполне реалистически сообщает о мчащихся по петербургским улицам рысаках, что они "звонко достают подковами мостовую". (...Ой, нет! Если прислушаться, то в этом описании есть отголосок "Невского проспекта" - оно, конечно, сродни и лампе диавола, и вытягивающим ноги лошадям экипажей. Все это проверить.)
Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе - верней, листов понадобится несколько - все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. Надо в конце концов это сделать!
Сколько таких сюжетов? Довольно трудно ответить сразу, не приступив к самому выписыванию. Двести? Пожалуй, двести. Нет, меньше. Сто! Сразу - сто? Первым вспоминается "Принц и нищий". Нет, нет, ничто не вспоминается отдельно - врывается целый вихрь!
Некоторые эффекты в литературе подготовлены необыкновенно искусно.
В "Принце и нищем" есть линия, соединяющая юного короля в его бедствиях с некиим молодым дворянином, судьба которого схожа с судьбой короля: он тоже оказался вне права на свою собственность... Правда, король оказался вне права на престол, а дворянин всего лишь на полагающуюся ему часть земельного наследства, тем не менее их сближает один и тот же гнев против несправедливости. Молодой дворянин полюбит мальчика. Как и прочие, он считает заявление мальчика о том, что он король, проявлением безумия. Но молодой дворянин относится к ним снисходительно, делает вид, что признает мальчика и в самом деле королем. Однако в связи с тем, что молодой дворянин соглашается на признание, как ему представляется, мании мальчика, возникают для него и некоторые неудобства - так, например, король не разрешает ему вместе С собой обедать...
- Пока я обедаю, ты должен стоять за моим стулом и прислуживать мне.
В результате молодому дворянину приходится есть свой обед уже остывшим. Неудобство, кажется, устраняется следующим образом. Молодой король попадает в руки полубезумного религиозного фанатика, который, услышав, что мальчик называет себя королем, сыном Генриха VIII (секвестрировавшего церковные имущества), решает заколоть мальчика, чтобы отомстить его отцу - вернее, памяти его отца, так как Генрих VIII уже умер. Молодой дворянин спасает мальчика от расправы изувера.
- Что ты хочешь в награду за спасение короля? - спрашивает мальчик.
- Разрешения сидеть в его присутствии, - отвечает молодой дворянин.
Юный король торжественно провоглашает, что отныне Смайльсу Гендону (так зовут молодого дворянина) и его потомкам даруется право сидеть в присутствии короля Англии.
Друг короля счастлив: теперь, по крайней мере, ему не нужно будет стоять за спиной мальчика во время обеда и он будет есть его горячим.
- Да, да, очень хорошо, - отмечаем мы, читая книгу хоть
и в десятый раз! Но вместе с тем, как это всегда происходит
при чтении именно замечательных книг, как бы впервые. -
Да, очаровательная история. Как многократно и по-разному
она запоминается.
Мы, таким образом, вполне удовлетворены этой историей как таковой, как законченно существующей в повествовании, не подозревая, что... впрочем, слушайте дальше!
Незадолго до окончания романа Смайльс Гендон вдруг разлучается со своим любимцем: как-то и куда-то тот исчезает. Наш герой горюет некоторое время, но вскоре его печаль уступает место весьма важной озабоченности, связанной с тем, что в Лондоне назначена коронация нового короля - юного и, как говорят, доброго... Я упаду ему в ноги, думает Смайльс Гендон, и попрошу у него защиты против моих обидчиков, лишивших меня наследства.
Он спешит в Лондон... Вот он входит в собор, где сейчас начнется коронация, и видит, что и в самом деле король юн и, кажется, добр.
Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды.
- Он? Неужели он? Так он был королем? На самом деле
королем? А я считал его безумным! Нет, нет, я ошибаюсь! Это
не тот мальчик! Не может быть, чтобы...
Тут молодой дворянин вспоминает о дарованном ему тем мальчиком праве... и, притянув к себе кресло, садится на виду у всех. Общее возмущение, его схватывают.
- Не троньте его, - раздается голос с трона, - этот
человек имеет право сидеть' в присутствии короля Англии.
Вот чего мы не подозревали! История, которая и сама по себе представлялась нам достаточно украшающей повествование, еще, оказывается, была и подготовкой к блистательному финалу...
Мне кажется, что весь этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой литературе, стоит в первом их десятке.
...Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, уже знал о финале? Или финал внезапно родился из этого остывающего обеда?
Как это много - провести такой ход! Какое несравненное мастерство!
Кроме "Принца и нищего" и книг о Томе Сойере и Гекль-берри Финне, Марк Твен написал еще ряд прекрасных книг - хотя бы такие, как "Жизнь на Миссисипи" и "Янки при дворе короля Артура". Также вышло из-под его пера множество рассказов и статей на разные темы, всегда связанные с критикой капиталистического строя, американского мещанства. Однако главная ценность творчества Марка Твена, величие этого творчества именно в том, что он написал "Принца и нищего" и эпопею Тома Сойера - то есть создал книги, ставшие знаменитыми книгами для детей, для юношества, по впечатлению, произведенному ими на поколения, равные "Робинзону Кру-зо", "Путешествию Гулливера" и "Дон-Кихоту", романам Жюля Верна, сказкам Андерсена. Не так легко было добавить к этой немноготомной, гордо замкнутой библиотеке новые книги... Марк Твен добавил их, и это делает его фигуру в литературе уникально великолепной.
По внешнему виду он похож на джентльменов времен войны Севера и Юга - грива волос, широкие усы, сюртук, кажущиеся измятыми брюки... Вспоминаешь также давние иллюстрации к жюльверновским романам. Член "Пушечного клуба"? Глаза смеются... Сейчас он скажет шутку. Он так и воспринимается некоторыми как юмористический писатель.
Ну что ж, юмор разлит по мировой литературе, начиная от древних писателей. Напрасно нет музы юмора. Впрочем, все девять представляют его. Даже Мельпомена, муза трагедии. И даже муза истории Клио.
Как сила воображения, как сила анализа, как умение называть вещи по-иному, бросать краски - так же свойственно великим писателям чувство юмора. Серьезный Бальзак, серьезный Золя, патетический Гюго, страшный Эдгар По блистают, когда хотят, юмором.
Не будем говорить о Диккенсе, о Чехове, о Гоголе - этих гениях юмора...
Мне кажется, например, что умение изображать наружность действующих лиц несколькими штрихами, кратко, мгновенно, разом, как это делают великие писатели, зависит в сильной степени от наличия у них как раз чувства юмора.
Смешно, я как будто защищаю юмор... Он не нуждается в защите. Я говорю это, чтобы придать вес мнению о Марке Твене, как о юмористическом писателе, которое звучит несколько поверхностно в устах тех, кто неглубоко знает этого писателя. Да, юмор играет огромную роль в произведениях Марка Твена, но и у тех, великих, он применяется для того, чтобы высмеять плохое или украсить хорошее. Он и мил миру, Марк Твен, юмором - поистине бессмертным.
Еще о юморе его... Это ему, Марку Твену, принадлежит, пожалуй, одна из самых смешных фраз, прозвучавших когда-либо. Когда вдруг пресса стала распространять неверные известия, что он умер, он сообщил в прессе же: "Слухи о моей смерти несколько преувеличены".
Марк Твен не юмористический писатель, а крупнейшее явление в мировой литературе, один из светочей ее, так как он бросил свой гений на службу человеку, на укрепление его веры в себя, на помощь тому, чтобы душа человека развивалась в сторону справедливости, добра и красоты.
Я помню то сильное впечатление, которое произвел на меня "Орленок" Ростана в постановке Одесского театра при участии Виктора и Мариуса Петипа. Первый играл герцога Рейхштадского, сына Наполеона, второй - Меттерниха. Сидишь в красной ложе, окруженный девочками и дамами, смотришь на почти кремовых оттенков сцену, на золотые ножки стульев, на герцога в таком же кремовом мундире и в черных лаковых ботфортах... Как можно не чувствовать блаженства!
Меттерних волочит бедного Орленка к зеркалу... Тот держит в руках канделябр - горят, дымясь, почти падающие свечи! Меттерних волочит его к зеркалу, чтобы показать ему, каким слабым, жалким, вырождающимся выглядит он, носитель крови Габсбургов... Юный герцог, поняв правду в словах мучителя, бросает канделябр в зеркало. Звон разбитого стекла, тьма. Этого нельзя забыть?
Собственно, мы знаем "Орленка" не Ростана, а Щепки-ной-Куперник. Пьеса - в стихах, и, как это всегда бывает при стихотворных переводах, переводчика в ней много!
Ростан очень нравился, когда жил и творил. Им увлекся Врубель. Образ принцессы Грезы - один из трепетавших в моем юном сердце. "Сирано" заставлял плакать. Я о себе думал, что я Сирано, - тогда, в эпоху первой любви.
"Я попаду в конце посылки!"
Строки из этой баллады, которую Сирано импровизирует во время дуэли на шпагах, довольно часто повторялись в юности. Мне и до сих пор нравится этот носатый кавалер, прыгающий в кресло, этот карлик с огромным носом, поэт, храбрец, фехтовальщик... В юности я подражал Ростану (опять-таки Щепкиной-Куперник) - сочинял комедию в стихах.
Ростан на фотографии - в коротком мундирчике Академии с пальмовым шитьем на воротнике, с усами, торчащими, как пики, чахоточный...
Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призванное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую реакцию, талантливый драматург.
- Да? Да неужели? Да что вы говорите?
Я однажды прямо-таки подкрадывался к такому месту... Тень Банко появляется перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит. Он опять к трону - опять тень! Молчит. Тень и в третий раз...
"Ну, - подумал я, - как же будет реагировать Макбет?" Трудно представить себе более точную реакцию.
- Кто это сделал, лорды? - спрашивает Макбет.
Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение, - кто-нибудь из них переоделся или переодели актера.
- Кто это сделал, лорды?
А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает.
Обычно говорят о нелюбви Толстого к Шекспиру. Однако уже по тому, как пересказал Толстой содержание первой сцены "Короля Лира", видно как раз обратное: Шекспир ему нравится. "Тут могла бы получиться прелестная сценка, - то и дело говорит Толстой, - но Шекспир со свойственной ему грубостью погубил ее". Как может не нравиться писатель, у которого такие широкие возможности то и дело создавать или хотя бы только задумывать прелестные сценки?
Гофман, изображая в рассказе некоего студента, говорит, что этот студент принадлежал к людям, которым во всем не везло... Да, если он ронял хлеб с маслом, то бутерброд падал у него всегда намазанной стороной на землю. Можно возразить Гофману, что бутерброд всегда падает намазанной стороной.
Кто он был, этот безумный человек, единственный в своем роде писатель в мировой литературе, со вскинутыми бровями, с загнутым книзу тонким носом, с волосами навсегда поднявшимися дыбом? Есть сведения, что, пиша, он так боялся того, что изображал, что просил жену сидеть с ним рядом.
Гофман необычайно повлиял на литературу. Между прочим, на Пушкина, Гоголя, Достоевского.
У Герцена есть восторженная статья о нем.
Он появился, мне кажется, ни на кого не похожим. Он не только фантаст, но полон жанром, бытом, подлинностью. Иногда он путается. Говорят, что он писал пьяным.
Музыка царит в его произведениях. Кавалер Глюк появляется из прошлого, живой перед ним, Гофманом, и слушает исполнение "Ифигении в Авлиде". Дирижеры, театральные занавесы, загримированные актрисы толпятся на его страницах.
Он, может быть, первый изобразил двойников, ужас этой ситуации - до Эдгара По. Тот отверг влияние на него Гофмана, сказав, что не из немецкой романтики, а из собственной души рождается тот ужас, который он видит...
Может быть, разница между ними именно в том, что Эдгар По трезв, а Гофман пьян. Гофман разноцветен, калейдоскопи-чен, Эдгар в двух-трех красках, в одной рамке. Оба великолепны, неповторимы, божественны.
У него был кот, которого он любил. Этот человек сильно пил, теряя с каждым днем человеческий облик. Вот однажды, вернувшись домой пьяным, он отвел душу на коте. Он его сжег. Как будто так? Всегда эта история с первым любимым котом не запоминается по своей неясности (а может быть, по моему недомыслию, не умеющему в этой истории разобраться)... Словом, кот, умерщвленный им, возвращается к нему в виде другого, которого он внезапно увидел на стойке в кабаке. Он ему очень понравился, этот новый кот.
- Можно мне взять вашего кота?
- Можно.
Он приносит кота домой. Вдруг замечает, что на груди у него (кот абсолютно черный) белое пятнышко. Он находит, что пятнышко имеет форму виселицы. Так и есть: на другой день он видит, что оно не только похоже на виселицу, а еще за ночь виселица стала четче. Это его пугает и раздражает.
Он пьет все хуже. Его бедная жена страдает от того, что он пьет. Однажды он спустился в погреб, чтобы нацедить из бочонка вина. Жена пошла вместе с ним - просит, чтобы не пил... Вдруг, когда кружка наполнилась, кот, увязавшийся за ним в погреб, неловко прыгнул и вытолкнул у него из рук кружку. Он схватил топор, чтобы нанести удар коту, однако удар пришелся по жене и оказался смертельным. С дьявольской аккуратностью он вынул из стены ряд кирпичей и спрятал в нишу труп жены, поставив его во весь рост, поскольку так было наиболее удобно в связи с размерами ниши. Потом с такой же дьявольской аккуратностью замуровал нишу... В дальнейшем он радуется, что в доме стало тихо, что исчез, между прочим, и кот, который казался ему, со своей виселицей, привидением... Однако соседи удивились долгому и непонятному отсутствию хозяйки. Пришла полиция; осматривают дом; спускаются в погреб. Он настолько уверен в своей неуязвимости, что ему даже хочется задраться с полицией. Он говорит:
- Может быть, она там? - и стучит по кирпичам, за которыми труп.
Вдруг раздается чудовищный крик. Разбирают кирпичи - и в нише видят полуобъеденный скелет женщины, на голове которой сидит кот, орущий своим окровавленным ртом.
Не заметив, он замуровал кота вместе с телом жены.
Можно ли представить себе более мощный сюжет? Кроме того, в рассказе - Америка: бары, полиция, кирпичные стены, подозрения, таинственные убийства...
Этот рассказ Эдгара По в одной из своих статей пересказывает Достоевский.
Мало что написано лучше, чем та сцена, когда Кэвор ("Первые люди на Луне") и его спутник, ведомые селенитами, подходят к мосту над гигантской и, как ощущают они, индустриального характера пропастью и, увидев, что мост не шире ладони, инстинктивно останавливаются... Конвоиры с тонкими пиками, не зная, что причина остановки только в том, что мост слишком узок, рассматривают эту остановку как неподчинение, бунт. Они начинают покалывать своими тонкими пиками Кэво-ра и спутника - ну-ка, идите, в чем дело? А те не могут идти по самой своей природе! Безвыходность положения усиливается еще и тем, что если бы даже наши два земных жителя и попытались объяснить селенитам, почему именно они не могут вступить на такой узкий мост, то те все равно не поняли бы, поскольку у них, как видно, отсутствует ощущение и страх высоты. Тут Кэвор и его спутник (раздраженные, кстати, покалываниями) решают, что лучшее, что можно предпринять при таком положении, это начать драться... Подхватывают валяющиеся под ногами золотые ломы и крошат селенитов направо и налево.
Чудо!
Это похоже на Данте: селениты - бесы, переход по узкому мосту - одна из адских мук. Причем та же сила подлинности, что и у Данте, - подлинности фантастического.
Он был всю жизнь моим любимым писателем. И как грустно, что я не доложил ему о своей любви. Мне не посчастливилось сделать это, хотя, кроме первого посещения Москвы (когда он разговаривал с В. И. Лениным), он посетил ее также в 1934 году. Но я тогда был в Одессе.
Как не восхититься теми мастерскими интонациями, которые есть, например, в "Невидимке"!
- Твое лицо мне видимо, а тебе мое - нет, - говорит Невидимка полицейскому полковнику Эдакю, глупо решившему, что он сильнее Невидимки, поскольку обладает револьвером.
Он величествен, Невидимка. Почему? О, об этом можно писать и писать!
Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами, - они пускали в ход лопаты! - и постепенно на глазах у толпы становится видимым - все более человеком, все более жалким. Был фильм о Невидимке. Уэллса ли сценарий? Фильм хуже романа, беднее по существу. В фильме невидимость приобретается вследствие медицинских впрыскиваний, делающих человека невидимым, но одновременно обрекающих его на безумие. Так что причина безумия Невидимки в фильме - физиологическая, низшего порядка. В романе он стервенеет, сходит с ума от одиночества, от того, что он один против всех, - причина, следовательно, историческая, высокая. Это роман, как мне кажется, об анархистах, потрясавших ту эпоху, когда он был написан. Да, да, безусловно, так, художественное отображение анархизма... (В "Похищенной бацилле" он изображает анархиста уже непосредственно; герой повествования, анархист, похищает в лаборатории бациллу холеры, чтобы заразить весь Лондон.)
У него есть рассказ ("Зленая калитка") о человеке, который однажды в детстве, отрыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очтился в неизъяснимо прекрасном саду, где на цветущей лужйке играла мячом пантера... Хотя произошло это в далеком дтстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде насолько завладело душой героя, что вот идут годы, а он все ищет зеленую калитку. Теперь он уже зрелый, достигший высоиго положения человек (он министр!), но лучшее, к чму постоянно возвращается его душа, - это мечта отыскать калитку. Однажды ему кажется, что он видит ее... Вот онг вот эта калитка! Он открывает, шагает - но нет за каликой сада с играющей на лужайке пантерой: там мрак! Оказыается, он шагнул в шахту, в которую и провалился.
Рассказ, следовательно, о разладе между чистыми устремлениями юности и последующим попаданием, что ли, в плен житейской суете, заставляющей терять эту чистоту... "Зеленая калитка", мне кажется, мгла бы оказаться среди рассказов, которые отбирал для "Круг чтения" автор "Записок маркера".
Наличие такого рассказ среди творений автора фантастических романов о технике редставляет интерес в том смысле, что характеризует его вообажение поэтическое. Ведь в том-то и дело, что осмыслить рожавшуюся в мире великую технику и писать о ней взялся имено поэт! От этого фантастические романы Уэллса стоят перед нами, как некие мифы новой эпохи, мифы о машине и челвеке.
Если мы говорим, что в капиталистическом мире техника подавляет человека, то лучше всего это подавление, этот страх человека перед машиной выражен, конечно, автором "Борьбы миров" - романа, где ест. сцена, в которой смятенный человек в пиджачке и кривом галстуке, прижавшись к какой-то жалкой городской стене, с ужасом смотрит на приближающееся к нему сквозь развалины стальное щупальце марсианина...
Обычно в противовес чересчур уж сильному возвеличению Уэллса выдвигают Жюля Верна: ведь именно тот первым заговорил в литературе о технике! Может быть, это и так, но куда, скажем, капитану Немо до Невидимки! Жюльверновский герой - схема, уэллсовский - живой человек... Что может быть более условным, чем фигура Паганеля? Чуть ли не комический персонаж из оперетты Оффенбаха! Когда-то я работал над инсценировкой для театра "Детей капитана Гранта" и должен был отказаться от работы по той причине, что герои никак не оживали на сцене... Нужно было изобрести для них всю систему диалога, весь характер словаря, и, когда я пытался сделать это, тогда происходили нарушения системы романа по другим линиям... Мне скажут, что есть же инсценировки жюль-верновских вещей, тех же самых, скажем, "Детей капитана Гранта"... Есть, но в них нет живых людей, это феерии. Этим словом можно и определить романы Жюля Верна: да, это феерия на темы техники. Смешно было бы умалять гений Жюля Верна, однако человеческая сторона его не интересует: он даже иногда подчеркивает это, делая своих героев очень часто чудаками, эксцентриками (члены Пушечного клуба, тот же Паганель) или мелодраматическими злодеями (Айртон)... Отсюда романы Жюля Верна не приобретают тех свойств, которыми, наоборот, отличаются произведения Уэллса: свойств подлинности, свойств эпоса. Мы никогда не забудем, читая Жюля Верна, что все это выдумка; при чтении же, скажем, "Борьбы миров" мы вдруг подпадаем под действие странного представления: вдруг начинает нам казаться, что и в самом деле было такое событие, когда марсиане пытались завоевать Землю.
Это скромный человек, бывший о себе, как о писателе, не слишком высокого мнения. Л. Никулин присутствовал при одном разговоре, когда Уэллс сказал, что гений - это именно Горький...
- А у меня всего лишь хорошо организованный мозг.
Он немного сродни тем людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса - в "Невидимке", в "Первых людях на Луне"... Маленькие английские клерки в котелках и с тоненькими галстуками, разбегающиеся во все стороны от появившегося из мира будущей техники дива или, наоборот, сбегающиеся, чтобы посмотреть на это диво и погибнуть. Что ж, он родился именно в эту эпоху. Если ему сейчас шестьдесят с чем-то лет, то он мог стоять вместе с теми велосипедистами, которые обступили упавший с неба шар Кэвора. Да, в ту эпоху он был мальчиком и жил в Англии. Мы знаем кое-что из его биографии. Так, нам известно, что его мать была опереточная актриса; так, известно также, что он начал с участия в мимическом ансамбле в Англии и вместе с ансамблем этим приехал на гастроли в Америку. Что же это за такой ансамбль, который вызывает интерес настолько, что его даже приглашают на гастроли в другую часть света? Тут мы ничего не можем себе представить, поскольку в наше время уже не было таких ансамблей.
Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса. Это знаменательно - он тоже напуган техникой, как и они, он тоже из-за машины никак не может наладить своего счастья.
Дело серьезное. Я, кажется, ничего не сделал, ничего не умею делать. Эта куча, которая лежит в углу комнаты, есть ли это литературное наследство?..
Абрам Роом видел в Брюсселе чаплинские "Огни рампы". Всю жизнь я смотрю на этого человека с завистью, с восхищением. Правда, он на редкость свободен. Пожалуй, здесь он хохотал бы - он-то, Чаплин, свободен? Да он зависит от публики! Он может выпустить фильм, который не будет иметь успеха, и тогда конец ему. разорение! Какая ж это свобода?
Абрам Роом был в гостях у бельгийской королевы. Сидели за круглым столом, пили очень хороший чай, ели маленькие бутерброды с сыром, колбасой, вареньем.
- Кто служил за столом?
- Лакеи.
Тут это звучит особенно веско. Королева!
Сегодня чуть-чуть морозно. Вот именно - чуть-чуть. Это чуть-чуть скользит по земле в виде серебряных крупинок, останавливается на земле еле заметным узором льда - светится в небе по фону синевы еще чем-то: каким-то неуловимым движением чего-то...
Одним из последних слов Мирабо были слова о том, что солнце - если оно не сам бог, то, во всяком случае, его двоюродный брат. Когда читаешь о смерти великого или, по крайней мере, известного в истории человека, всегда хочешь понять, отчего он умер, с нашей точки зрения. Тогда многое называлось горячкой или подагрой. Почти от всего делалось кровопускание. Мирабо умер в несколько дней. Не поймешь от чего. Удар? Нет, он до конца говорил значительно. То, что теперь называется инфаркт? У него была огромная голова, багровая, с отеками, как винный мех.
Случилось со мной что-то или ничего не случилось?
Мне не хочется видеть зрелища, которые дается мне возможность увидеть, - новые, еще не виданные мною зрелища: так я не пошел на китайскую оперу, от которой, послушав ее, пришел в восторг Чаплин. Так я не рвусь на международные футбольные матчи. Так я не пошел на выставку Пикассо.
Очевидно, что-то случилось. Что? Постарение? Возможно. Иногда мне кажется, что это исчезновение интереса к новому, отказ воспринимать это новое происходит от того, что я заинтересован сейчас только в том, чтобы создавать собственные вещи.
На новый фильм Чаплина, если бы его у нас показывали, я бы, пожалуй, рвался...
Какой был интерес ко всему, когда я был молод и только начинал свою литературную деятельность. Я помню, как с Ильфом мы ходили в кино, чтобы смотреть немецкие экспрессионистские фильмы с участием Вернера Крауса и Конрада Вейдта и американские с Мэри Пикфорд или с сестрами Тол-мэдж. Кино "Уран" на Сретенке, мимо которого я сейчас прохожу с полным равнодушием, даже не глядя на него...
Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне необыкновенной - да, да, именно так: все было ново, до сих пор невиданно - и сюжет, и прием, и герой, и, главное, юмор... Он тоже был нов, юмор, а между тем мы, зрители кино тех времен, были не мало изощрены по этой части. Нет, такого юмора еще не было! Странный, очень смешной человечек, как показалось мне тогда, с большой волосатой головой портного, проходя мимо шедшего с раскрытой книгой и о чем-то замечтавшегося поэта, кладет ему на страницу разбитое тухлое яйцо. Тот как раз захлопывает книгу. Ужас, вонь, главное - разочарование: только что были стихи, вдруг такая гадость! Почему Чарли Чаплину не пришло в голову сыграть Эдгара По? Там нет комического? Можно было бы найти. Эта маленькая картина, которую я вспомнил, шла в Одессе в кино "Одеон", когда мне было восемнадцать лет и я переживал свою первую любовь. Мне не было слишком много дела до проплывавших на экране теней, вернее, угловато двигавшегося на ней человечка, но, как видите, он остался в памяти. Помню, что, когда я увидел первое появление на экране уже всемирно знаменитого Чаплина, я сразу узнал в нем того же человечка.
По поводу мнения иностранных критиков о том, что нашей литературе чужда выдумка... Однажды, в юности, получив очередную книжку "Мира приключений" (я вспоминаю не тот "Мир приключений", который выходил в советское время, а давний - приложение к журналу "Природа и люди"), я прочел в ней рассказ какого-то неизвестного русского писателя со следующим сюжетом (подчеркиваю: неизвестного русского писателя, фамилия которого мне даже не запомнилась!).
Инженер (тоже с русской фамилией) конструирует "машину времени", способную двигаться как в будущее, так и в прошлое. Однажды, когда, занятый вычислениями, он находился в кабинете, его два сына проникли в мастерскую, где снаряд его стоял уже в законченном виде... Услышав голоса, он бросается в мастерскую, но, увы, поздно: в мастерской пусто, нет ни машины, ни сыновей, улетевших с ней! Куда они улетели? В будущее? В прошлое? Инженер в отчаянии. И вот начинается сооружение некоего магнита, который обладает силой, так сказать, вытягивания машины из пространств времени, где бы она ни находилась - в прошлом или в будущем.
Слушайте, что придумал этот писатель... Многие годы инженер конструирует свой магнит. Вот он закончен... инженер поворачивает рычаги и в страхе отступает: перед ним с грохотом рушится наземь римлянин: в бороде, в латах... Молчание, оба вглядываются друг в друга.
- Отец, - шепчет римлянин.
Имя сына срывается с уст инженера...
- Это ты?
- Да, это я!
- А где же брат?
Следует пауза, во время которой, видя смятение сына, инженер начинает догадываться о случившемся. И сын произносит:
- Отец, я был Ромулом.
Таким образом, действие магнита было той молнией, при разряде которой был, как известно, взят на небо великий Ромул - в свое время братоубийца.
Гениальный сюжет именно в отношении выдумки! Причем к выдумке как таковой русский автор добавил еще и человечность.
От рождения мальчика держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир, - буквально: не видел никогда солнца!
Какой-то эксперимент, причуда богатых... И вот он уже вырос, уже он юноша - и пора приступить к тому, что задумали. Его, все еще пряча от его глаз мир, доставляют в один из прекраснейших уголков земли. В Альпы? Там на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку... Юноша, разумеется, ошеломлен красотой мира. Но не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя это никогда не видевшее солнца человеческое существо при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика. И не замечают, что он поглядывает на них! Вот солнце уже скрылось... Что происходит? Происходит то, что мальчик говорит окружающим:
- Не бойтесь, оно вернется! Вот что за писатель Грин!
Его недооценили. Он был отнесен к символистам, между тем все, что он писал, было исполнено веры именно в силу, в возможности человека. И, если угодно, тот оттенок раздражения, который пронизывает его рассказы, - а этот оттенок, безусловно, наличествует в них! - имел своей причиной как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшебно сильны, какими они представлялись ему в его фантазии. Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так как он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей из прошлого - причем в этом прошлом он принадлежал к богеме, - то, чтобы не потерять уверенности в себе (несколько озлобленной уверенности), он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так с гордостью он мне сказал:
- Обо мне писал Айхенвальд.
Я не знаю, что о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он относил себя к символистам. Помню характерное в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходивших в то время, в "Красной ниве", печатался его роман "Блистающий мир" - о человеке, который мог летать (сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат: обыкновенный чело- век). Роман вызывал общий интерес - как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг, после нескольких описанных бегом по арене кругов, начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать... Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка! Или, например, такая краска: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище - окно маяка! И вот, когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился.
- Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает; это парение духа!
Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку. Тут прямо-таки даешься диву. Хотя бы рассказ о человеке, который должен был, вследствие того, что был инсургентом, покинуть город, где жил и где осталась его семья, и поселиться на противоположном конце той дуги, которую образовал берег залива между двумя городами, и как однажды прискакал к этому человеку из покинутого города друг с сообщением, что семья его во время пожара стала жертвой огня и что если он хочет застать жену и детей еще в живых, то пусть немедленно садится на его, друга, коня, скачет туда, на ту сторону залива, на тот край дуги. Друг сходит с коня, протягивает поводья - но инсургента нет! Куда он девался? Он его зовет, а потом ищет... Нет его! Что ж, гонцу ничего не остается, как опять сесть на коня и возвращаться. Вернувшись, он, к удивлению своему, встречает инсургента уже в городе - выходящим из больницы.
- Я успел с ними попрощаться.
- Постой, - спрашивает друг в ошеломлении - ты шел пешком? Как же ты мог оказаться здесь раньше меня? Я скакал по берегу двое суток...
Тот, оказалось, шел не по дуге залива, а пересек его по воде!
Вот как силен, по Грину, человек. Он может, даже не заметив этого, пройти по воде. Причем тут символизм, декадентство?
Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.
Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка свойственны только англосаксонской литературе: ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные, что, ища определения степени этой оригинальности, сравниваешь их даже с первозданностью таких обстоятельств, как, скажем, движение над нами миров.
В последние годы своей жизни Грин жил в Старом Крыму, недалеко от Феодосии. Я там не был, в этом его жилище. Мне только о нем рассказывали. Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет... На стене комнаты - на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собой хозяин, - был укреплен кусок корабля. Слушайте, он украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт! Разумеется, это был только обломок статуи, только голова (будь она вся, эта деревянная дева, она легла бы сквозь всю комнату - может быть, сквозь весь дом и достала бы сада!) - но и того достаточно: на стену, где у других висят фотографии, этот человек плеснул морем!
Хочется писать легкое, а не трудное. Трудное- это когда пишешь, думая о том, что кто-то прочтет. Ветка синтаксиса, вернее - розга синтаксиса все время грозит тебе. А писать легко - это писать так, когда пишешь, что приходит в голову как по существу, так и грамматически.
Как нравится Метерлинк! Его "Втируша" (хорошо ли переведено - Втируша?), его "Слепые"! Слепые, которых вел зрячий священник, вдруг начинают чувствовать, что что-то случилось - это умер их поводырь: умер среди них, но некоторое время они не знают, что случилось именно это.
У него опущенные вниз, несколько лукавые усы богатыря. Он фламандец. Станиславский увидел его впервые в шоферской куртке, в кепке, у автомобиля. Он один из первых автомобилистов. Он написал об этой тогда еще новой машине целое эссе... Это первое впечатление человека от той новой техники, которую хочется назвать техникой во имя скорости.
Его называют декадентом. Но он был теплым, веселым любителем природы, животных, был - со своим автомобилизмом - одним из первых поэтов именно такого рода техники, которая, будь он декадентом, должна была бы его ужаснуть.
В годы вскоре после Версальского мира появилось несколько замечательных немецких романов. Их называли экспрессионистскими. Фамилии авторов были - Верфель, Перуц, Мейринк. Эти романы были, можно сказать, фантастическими. Однако это не была фантастика, резко расходящаяся с бытом, с житейским, подобно, скажем, фантастике Гофмана. В этой экспрессионистской фантастике фигурировал реальный город, реальные люди, однако происходило нечто странное, что заставляло реальных людей попадать в жуткие положения. Пожалуй, больше всего это было похоже на Достоевского, которого, кстати, экспрессионисты считали своим духовным отцом. Да, именно на Достоевского с его сценами вроде лестничной клетки, на которой мечется Раскольников. Это фантастика, рождающаяся от колебания света и теней, от возникновения на пути преграды, угла, поворота, ступенек...
Под очарование этих писателей довольно трудно было не поддаться - особенно начинающему, не воспитывающемуся на русской литературе, приехавшему из европообразной Одессы.
Я замечаю, что я сейчас избегаю изложения каких-либо зародившихся во мне серьезных мыслей - как видно, опасаюсь, что не получится. Может быть, просто устал.
Начал читать "Гедду Габлер". Молодой глуповатый ученый женился на дочери генерала Габлера - некоей, как сразу показано, демонической женщине, которая своим выходом за него замуж принесла ему, как ей это представляется, жертву. Он говорит своей тетке, воспитавшей его, что Гедда не согласится на мещанскую жизнь. Кстати, комната, в которой начинается действие, вся в цветах (здесь герои появляются после возвращения из свадебной поездки)...
Зачем это пересказывать? Содержание всем известно.
Финал действия с пистолетами несколько неожидан, резок. Гедда получается уж слишком страшной.
Когда я был маленьким, то и дело я прочитывал эти слова на афишах - "Гедда Габлер". Кажется, ее играла Комиссаржевская.
Томас Манн тонко подмечает в одном рассказе, что во время деревенского бала дети продолжали отплясывать даже тогда, когда музыка уже не играла.
Подробность в стиле русских писателей.
До некоторых размышлений Томаса мне не дотянуть, но в красках и эпитетах я не слабее.
Умер Томас Манн. Их была мощная поросль, роща - с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатоль Франс, Бернард Шоу, Горький, Метерлинк, Гамсун, Манн.
Вот и он умер, последний из великих писателей.
Томасу Манну принадлежит "Волшебная гора". Там есть такой момент. Некий работающий с медиумом мистик, по просьбе нескольких проживающих в санатории независимых, умных и богатых людей, вызывает дух недавно скончавшегося там же, в санатории, молодого человека. Дух появляется не сразу... Вдруг начинает проступать в воздухе призрак молодого человека.
Кто-то, увидев, вскрикивает.
Тогда один из присутствующих спокойно говорит:
- Я его уже давно вижу.
Самое трудное, что дается только выдающимся писателям, - это именно реакция действующих лиц на происшедшее страшное или необычайное событие.
Да, там, в "Волшебной горе", есть необычайные вещи. Хотя бы основной прием: он перенес лихорадящий мир, человечество, во всяком случае, Европу, в санаторий чахоточных, в Давос - сжал, обобщил, обострил все мысли и тревогу мира до предела небольшой группы людей, действительно обреченных на смерть.
Там молодой человек, влюбленный в женщину, случайно видит у доктора, который тоже влюблен в эту женщину и пользуется у нее успехом, рентгеновский снимок ее легких - и это заставляет молодого человека особенно страстно почувствовать любовь к ней и ревность к этому всемогущему сопернику, умеющему видеть ее легкие.
Я не люблю Бернарда Шоу. Все - наоборот, кривляние, фокусы. Что бы он там ни проповедовал, по чему бы ни бил - мне все равно. Есть только одно ценное для меня качество у писателя: он - художник, вдохновенный художник. Герцен тоже проповедовал и бил - но для этого ему не нужно было фокусничать и говорить наоборот: он действовал, как художник.
Уайльд мне гораздо милее Шоу. Даже не то слово: милее! Он неизмеримо выше. Без Уайльда мировая литература, кажется мне, была бы беднее, без Шоу - она осталась бы такой же, как и была.
Я уж не говорю о великом Уэллсе!
Живого Шоу я видел. Это было в Москве в 1931 году (кажется) на приеме, устроенном в его честь Госиздатом. Шоу сидел за столом, покрытым белой скатертью, в головах стола, и ел малину, схватывая ее в миске тонкими пальцами. Он был по тогдашней европейской моде без галстука - просто в летней рубашке с расстегнутым, хорошо накрахмаленным воротом.
В числе гостей был Маяковский, которого за столом я не помню, но запомнил входящим где-то вдали коридора в дверь, потом идущим по угловатому коридору по направлению к комнате, где стою я. Он идет в шляпе и с тростью и видит меня. Глаза его, белые белки и черные круги радужной оболочки, видны в темноте коридора - и мне делается приятно и страшно.
Карел Чапек - великолепный писатель, высокое достижение чешской нации.
Он рано умер... До нас доходили сведения, что это случайная смерть, внезапное заболевание, которое можно было пресечь, если бы раньше принять меры...
Писатель одним из первых обратил внимание на машину - художественное внимание, как это сделал Уэллс в своей "Борьбе миров"... На машину и ее значение в жизни человека - на машину как на явление философское, историческое, нравственное. Его перу принадлежит вдохновенное произведение именно о машине и о человеке - "R. U. R.". Это пьеса, где действуют впервые получившие художественную реальность "роботы". Ему первому пришло в голову сделать действующими лицами искусственных машинообразных людей. Они действуют среди живых людей, их повелителей и одновременно роковым образом зависимых от них. Карел Чапек одним из первых ввел в мировую литературу новый персонаж, еще не ясный, фантастический, но странно яркий, загадочный и интересный.
Мы знаем, что наш Алексей Толстой заимствовал у Чапека сюжет пьесы, разумеется, переработав его, и написал на этот сюжет свой "Бунт машин". Тем более возвеличивается образ Чапека, его поэтическая сила, что другой художник, тоже ярко индивидуальный, вдохновляется его замыслом, останавливается на нем, очаровывается им.
Тема машины не покидает Чапека, он думает о ней, он все время во власти ее, как и следует передовому художнику эпохи. Вот именно, подчеркнем это: Чапек был передовым художником эпохи - этот одареннейший славянин... Когда, скажем. Марсель Пруст - мы не хотим снижать значение этого писателя - искал утраченное время, оглядывался назад, томясь, грустя, любя его - это утраченное время, Чапек следил за временем, идущим вперед, вглядывался в него и увидел, что главное в этом времени - взаимоотношение человека и машины...
Он написал "Войну с саламандрами". Это роман о фашизме, о политической системе, превращающей людей в машины, в рабов. Там действуют саламандры, но мы понимаем, что под видом саламандр Чапек выводит обезличенных, вызывающих жалость людей, которые утратили полноценность, будучи поставлены в условия фашистского государства с его "тушением гения", с его унифицированием человеческой души, с его требованием к человеку именно быть бездушной машиной.
Роман блистательно фантастичен - причем в том высшем, искуснейшем смысле фантастики, когда она становится похожей на подлинность, как это наблюдаем мы у Данте или у автора "Борьбы миров". В романе целая серия выдумок, находок, изобретений... Он - весьма выдающееся произведение предвоенной эпохи, своеобразное, оригинальное, напоминающее Рабле, Свифта.
Произведения Чапека пронизывает юмор здоровый, грубый, румяный - юмор сына славянской культуры... Мы знаем целый ряд его рассказов, очерков, миниатюр на жанровые темы, на темы искусства. Они юмористичны в том плане, как писал Чехов, в плане, когда юмор становится конструктивной силой, организующей материал наиболее выразительно, наиболее поучающе...
Не мешает сейчас, когда вспоминается историческое имя Карела Чапека, перечесть советским читателям его книги. Они издавались у нас с любовью к этому замечательному писателю, большими тиражами.
Иногда он очень тонок, изыскан... Ему ведомы все тайны мастерства, он на уровне мировых писателей - этот Карел Чапек, наш брат по корням языка, высокий ум и талант, высокая душа которого всегда принадлежали угнетенным.
Художественная сила Хемингуэя исключительна. Почти на каждой странице выпущенного Гослитиздатом двухтомника его произведений - а этих страниц больше тысячи, - имеется нечто такое, что способно, нам кажется, задержать на себе восхищенное внимание читателя.
Как превосходна, например, та сцена из романа "Прощай, оружие!", где полевая жандармерия выхватывает из толпы, бегущей вместе с отступающей итальянской армией, старых и заслуженных офицеров, которые не могут в данном случае не отступать, и демагогически, если можно так выразиться, их расстреливает... Не будет смелостью сказать, что это написано близко к уровню знаменитых военных сцен "Войны и мира" - скажем, той сцены, когда Багратион под Шенграбеном идет впереди полка...
В другой книге есть эпизод ссоры между врачом полевого госпиталя и артиллерийским офицером. Оба - оттого, что окружены страшной обстановкой госпиталя после боя, - находятся в истерическом состоянии, оскорбляют друг друга, и в конце концов врач в ярости выплескивает в глаза офицера блюдечко йода. Темп этой сцены, ее ракурсы, колорит так странно хороши, что даже не можешь дать себе отчета, читаешь ли книгу, смотришь ли фильм, видишь ли сон, присутствуешь ли при совершающемся на самом деле событии. Или, как, например, не признать великолепным место из романа "Иметь и не иметь", показывающее нам медленное движение по течению некоего судна, которое никем не управляется, поскольку четверо его пассажиров убиты, а капитан тяжело ранен и умирает. Они перебили друг друга. Это отнюдь не романтические причины, а следствие жестокости, алчности, страха... Представив себе судно мертвецов, читающий эти строки, но не знающий романа, отнесет подобный эпизод к прошлому, к романтическим же костюмам - нет, трупы и умирающий на этом судне одеты в пиджаки, плащи, волосы их расчесаны на пробор и блестят, возле них валяются револьверы, а судно не что иное, как моторная лодка... Тем большей жутью веет от такой картины, что она именно современна и возникла в общем из процветающего в Америке чудовищного явления - гангстеризма.
Как художник, Хемингуэй, изображая эту картину, проявляет поистине мощь. Моторную лодку мертвецов, пишет он, сопровождали маленькие рыбы разных пород, и когда сквозь пробоины, образовавшиеся в результате стрельбы, падала капля крови, рыбы тотчас бросались к ней и проглатывали ее, причем некоторые, будучи менее проворными, в момент падения капли оказывались по другую сторону лодки и не успевали полакомиться.
Хотелось бы также пересказать, как он изображает, например, появление льва в рассказе "Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера", или хозяйничание в закусочной тех же гангстеров в узких пальто и похожих на эстрадных эксцентриков в рассказе "Убийцы", или смерть мальчика в рассказе "Рог быка".
Чудесны автобиографические рассказы Хемингуэя, где нежно описана скромная фигура его отца, который был деревенским врачом и лечил индейцев.
В этих рассказах уже намечается тема рыбной ловли, занимающая в творчестве писателя весьма большое место, проявляясь почти во всех его произведениях. На войне, в трудные минуты, он вспоминает, как он удил некогда в юности рыбу - совершает мысленное путешествие вдоль этой реки юности, на родине. У него есть рассказ "На Биг-ривер", в котором ничего не происходит, кроме того, что молодой человек, автор, расставляет палатку, готовит себе завтрак и потом ловит форель. Конечно, любовь к рыбной ловле - личное дело Хемингуэя, но, изливаясь на бумагу, эта любовь уже предстает перед нами как любовь вообще к миру, превращается в несравненные изображения природы, человека, животных, растений и уже становится поэтому делом литературы.
Между прочим, приходит в голову мысль, что повесть "Старик и море", в основном написанная на тему о невозможности бедняку в капиталистическом мире "иметь", есть еще и отражение той же любви Хемингуэя к рыбной ловле, каковая любовь, смешавшись с грустью о невозвратности молодости, превратилась в повесть о ловле гигантской рыбы.
Хемингуэй с чрезвычайной неприязнью относится к богатым. Стоит ознакомиться хотя бы с изображением яхтовладельцев в романе "Иметь и не иметь". Показная культурность, признание одной лишь силы денег, разнузданная чувственность, холод сердца - вот какими чертами определяет Хемингуэй тех, кому в мире, где "не имеют", удалось "иметь". Отвратительная чета американских миллионеров в рассказе "Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера"... И есть также у Хемингуэя статья под названием "Кто убил ветеранов войны во Флориде". Это очень яркий документ, характеризующий Хемингуэя именно как человека, ненавидящего богатых, власть имущих. С дантовской силой изображает он в этой статье результаты преступления, содеянного предпринимателями и администрацией почти небрежно, почти на ходу.
Симпатии Хемингуэя на стороне тех, кто "не имеет". Его друзья - простые люди, скромные мастера своего дела, которых в Америке так много. Оцените, с какой теплотой, с какой отдачей художественного внимания описывает он негров, индейцев. Один из лучших, на мой взгляд, рассказов его - "Индейский поселок" - посвящен как раз восхвалению души индейца, ее чистоты. Этот индеец, слыша, как страдает, как мается его неудачно рожающая жена, не может вынести той жалостливости, того сочувствия к страдающей, того сознания своей вины, которые охватывают его, и перерезает себе горло.
Несомненно, Хемингуэй с его критикой богатых, с его любовью от всего сердца к бедным, с его органическим непризнанием расизма является одним из передовых писателей Америки.
Писательская манера Хемингуэя единственна в своем роде.
Иногда представляется, что он мог бы и вычеркнуть некоторые строки... Зачем, например, описывать, как подъехала машина такси и как стоял на ее подножке официант, посланный за машиной? Для действия рассказа это не имеет никакого значения. Или есть ли надобность останавливать внимание на том, что группа индейцев, не участвующая в сюжете, разворачивающемся на вокзале, покидает вокзал и уходит садиться на свой поезд? Важно ли давать подробную картину того, как бармен составляет коктейль: сперва налил то, потом налил это, потом ушел, потом вернулся, принес бутылку, опять налил и т. д.? Если бы, скажем, этим коктейлем отравили героя, тогда выделять такое место имело бы смысл... Нет, эта сцена вне сюжета. Имело бы также смысл останавливаться на ней, если бы, скажем, автор хотел рассказать нам, как приготовляются коктейли. Нет, и этой цели Хемингуэй не ставит себе. Право, другой бы вычеркнул подобные места... Однако Хемингуэй их не вычеркивает - наоборот, широко применяет, и странное дело, их читаешь с особым интересом, с каким-то очень поднимающим настроение удовольствием. В чем дело? Дело в том, что и мы, читатели, бывает, нанимаем такси, и нам случается ждать нужного поезда, и для нас иногда приготавливают коктейли. Отсюда и удовольствие. Мы начинаем чувствовать, что наша жизнь мила нам, что это хорошо - нанимать такси, ждать поезда, пить коктейль. Несомненно, такая манера, состоящая в том, что кроме ведения сюжета, писатель еще как бы боковым зрением следит за мелочами жизни - за тем, как герой, допустим, бреется, одевается, болтает с приятелем, - такая манера, скажем мы, несомненно, жизнеутверждающа и оптимистична, поскольку, как мы уже примерно сказали, вызывает у нас вкус к жизни. Честь первого применения этой манеры принадлежит, безусловно, Хемингуэю. Теперь ее применяют многие писатели Запада, в том числе Ремарк, Сароян, Фолкнер, замечательный польский писатель Ярослав Ивашкевич.
Диапазон Хемингуэя весьма широк. Хемингуэй в состоянии задеть любые струны души читателя. Да, вызвать слезы... Разве мы не плачем, читая сцену умирания Кэт в романе "Прощай, оружие!"? Действительно, как нам жаль ее! Как трогает нас ее желание справиться с родами, родить... как раздирает нам сердце появляющееся у нее на пороге смерти чувство виновности в чем-то - в том, что она не справилась, умирает. Это очень высокая в художественном отношении сцена, шедевр.
Может Хемингуэй задеть и струны умиления, нежности. Прочтите рассказ "Вино Вайоминга", где изображена принимающая гостей немолодая чета.
Совершенно превосходен уже упомянутый нами рассказ "Рог быка". Из ничего, из реплик на протяжении двух-трех страничек возникает живой, существующий образ мальчика. И нет предела жалости, вызванной у нас автором, - жалости к мальчику, погибшему в результате наивности, отчаянной, напрасной смелости и мальчишеского задора.
Вызвать жалость, нежность к хорошим людям, сочувствие им Хемингуэй считает для себя необходимым.
Когда хочешь определить, где корни творчества Хемингуэя, на ум не приходит ни английская, ни французская, ни американская литература. Вспоминаешь именно русских писателей: Тургенева, Чехова и Льва Толстого. В особенности Лев Толстой был его вдохновителем. Уже само стремление Хемингуэя разрушить литературные каноны стоит в какой-то зависимости от творчества автора "Войны и мира", выступившего среди крепких литературных традиций с новой формой, для которой так и не нашли определения, назвав облегченно эпопеей.
Нелюбовь к литературщине, возможно, возникла у Хемингуэя сама по себе, как и у других писателей той эпохи, когда он начинал. Но, найдя эту нелюбовь уже у Толстого, он не мог не преклониться перед ним.
- Это очень хорошая повесть, - говорит он в "Зеленых холмах Африки" о "Казаках" Толстого. И еще раз повторяет: - Это очень хорошая повесть.
Большой писатель не подражает, но где-то на дне того или иного произведения писателя, внимательно относившегося при начале своей деятельности к кому-либо из уже ушедших писателей, всегда увидишь свет того, ушедшего. Так, порой на дне творчества Хемингуэя видишь свет Толстого - "Казаков", "Севастопольских рассказов", "Войны и мира", "Фальшивого купона"... Если сказать точнее, то этот свет есть любовь Хемингуэя к Толстому.
Это, разумеется, беглые, поверхностные заметки... Да и как ни пиши, но если пишешь о таком явлении силы мысли и силы воображения, какое представляет собой крупный художник, то все равно останешься дилетантом.
Я никогда не занимался рыбной ловлей. Вероятно, это очень интересно. Можно представить себе, как приятно после города, труда и ссор вдохнуть запах реки... Я видел, как стоит в воде пузатенький поплавок, наполовину красный, наполовину белый. Он стоит на совершенно ровной блестящей поверхности, которая слепит глаза.
Рыбную ловлю описал Хемингуэй - без всяких прикрас, минуту за минутой, жест за жестом, предмет за предметом, мысль за мыслью. Потом у него любовь к рыбной ловле, смешавшись с грустью о невозвратности молодости, превратилась в повесть о ловле гигантской рыбы.
В Одессе ловили рыбу не в реке, а в море. Там тоже фигурировали поплавки, но среди моря они как-то не выделялись. Рыбаки, высоко подобрав штаны, ходили по краю моря, нагибаясь под нависшими скалами. Потом появлялся на дачных дорогах куда-то спешивший, быстро идущий чернявый человек все в тех же подобранных штанах, босой и с ветвью бычков в руке, которые он спешил продать. Бычок - это маленькое чудовище с огромной головой, поистине бычачьей, но с веерами возле ушей... Катаев хорошо описывал в своем "Парусе", как на одесском базаре мадам Стороженко продает бычки и как она их покупает у поставщиков - этих самых чернявых людей, быстро идущих по дачным дорогам босыми ногами и жадно ожидающих зова из окон.
Нужно ли такое обилие красок, как у Бунина? "Господин из Сан-Франциско" - просто подавляет красками, читать рассказ становится от них тягостно. Каждая в отдельности, разумеется, великолепна, однако, когда читаешь этот рассказ, получается такое впечатление, как будто присутствуешь на некоем сеансе, где демонстрируется какое-то исключительное умение - в данном случае определять предметы. В рассказе, кроме развития темы и высказывания мыслей, еще происходит нечто не имеющее прямого отношения к рассказу - вот именно этот сеанс называния красок. Это снижает достоинства рассказа.
В конце концов, мы, писатели, знаем, что все на все похоже и сила прозы не в красках.
Бунин замечает, что, попадая на упавший на садовую дорожку газетный лист, дождь стрекочет. Правда, он стрекочет, лучше не скажешь. То есть и не надо говорить лучше, это, выражаясь языком математики, необходимое и достаточное определение... Но есть ли необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно, задерживает внимание помимо рассказа?
Мы стоим перед вопросом, как вообще писать. В конце концов, рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок... Есть удивительные рассказы, ничуть не наполненные красками и деталями. Однако Гоголь широко применял сравнения. Тут и летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дороги, расползшиеся в темноте, как раки, тут и расшатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки... Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках.
В одном из этих отрывков Бунин пишет о том, что когда встречал пятидесятилетнего человека, то перед тобой было даже как бы страшное существо. Теперь, пишет Бунин, он сам уже в этом возрасте. Подписано: "Приморские Альпы, 1925 год".
Я встретил его тогда в Одессе на Екатерининской в году... 1915-м! То есть тогда ему было сорок лет. Позже, когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком - ему было всего лишь сорок два года.
Но ведь он и действительно был тогда стариком! И мало того: именно злым, костяным стариком- дедом!
Надо ли так писать, как Бунин? Зачем такое количество красок?
Он пессимист, злой, мрачный писатель. Хорошо, деревня была страшной в его времена, но когда читаешь изображаемые им ужасы, то кажется, что он подделывается под тех, кто ужасался искренне - для того чтобы, как говорится, выйти в люди.
Чего он хочет? Не знаю. Помещики ему, безусловно, милы. Кулаки - нет, а помещики - милы. Что же, он думает, что уничтожение ужасов произойдет от помещиков?
Даже Чехов с его пессимизмом верил в то, что через двести лет "жизнь будет прекрасной". У Бунина нет никакой веры. Тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности...
Его рассуждения о душе, сливающейся с бесконечностью или в этом роде - кажутся иногда просто глупыми. Пресловутый "Господин из Сан-Франциско" - беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство.
Умение точно описать - действительно поразительное. Однако молодая девушка, дочь господина из Сан-Франциско, с ее нежными прыщами на оголенной спине - пришла из толстовского "После бала".
Читал великолепные вещи Бунина. В "Лирнике Родионе" в описании, как одет слепой лирник, сказано, что холщовая его рубаха связана на горле красной, по-славянски, лентой.
Краски удивительно точны. Так, например, дождь стрекочет по лежащей на земле газете. Таких красок, из которых ни одна не заставляет переспросить себя, задуматься о ее точности, бесконечное количество. В крестьянском рассказе, где в центре умирающий крестьянин, непонятно, каким образом рождаются эти краски. Кто их видит?
Очень часто фигурирует воспоминание о женщине, которая не любила - грустное, раздирающее сердце, но с такой же точностью выраженное воспоминание.
В "Лирнике Родионе" - великолепная народная украинская песня о сироте и мачехе.
Иван Бунин из мелкопоместных, обедневших, на краю разорения помещиков. Эпоха уже с декадентами, Блоком, Врубелем, "Миром искусства" - и вскоре с войной.
Восторженные воспоминания об охоте. Огненные собаки, ветер, свистящий и гудящий в дуло ружья, помещики в расстегнутых поддевках, мертвый волк на полу гостиной с оскаленными зубами и проливающий розовую кровь.
У Чехова красок, по крайней мере, в сто раз меньше. Почему? Он не мог их увидеть? Или не считал возможным называть? В рассказе "Тина" от героини пахнет сладким запахом жасмина, и все, - а рассказ невероятно ярок. Чехов, между прочим, неким образом модернизировал анималистические краски: он может сказать, например, о мусоре, сдуваемом ветром с мостовой, что этот мусор улетал так быстро, как будто ему было стыдно за себя и он хотел поскорее скрыться.
Образных выражений такого порядка у Бунина уже не встретишь ни одного.
Чехов гораздо сильнее Бунина. Почему?
Если б не расцветшие деревья, то было бы похоже на март. Серое грязно движущееся небо - вот именно: с облаками, похожими на телеги, неясность в отношении температуры, зябкость... Словом, так же плохо, как этот отрывок.
В музее Чехова лежит его воротник, галстук, наружный платок, кашне... Галстук, между прочим, голубой, готовая бабочка с длинными полосками для обхвата шеи. Платок мало чем отличается от современных, также и кашне могло бы лежать в витрине на Столешниковом.
Уход, отсутствие некоей жизни, которая была и которой теперь нет, ощущается здесь с такой силой, что минутами тишина в этом доме становится почти реальным телом.
Все суждения, которые я слышу из уст любителей живописи, кажутся для меня всегда новыми, я перед ними мал, смотрю снизу вверх. Это всегда для меня новое, которое нужно знать - я всегда в школе, когда я разговариваю со знатоками о живописи. Ничего подобного я не испытываю, когда я разговариваю о литературе или когда читаю о ней. Пусть даже это будет мнение великих писателей - Льва Толстого, Пушкина и т. д. Тут для меня нового нет, я это все знаю и сам - тут я не в школе, я если и в школе, то среди учителей.
Кого же я люблю из художников? И на это не могу ответить. Восхищение тем или другим из них носит у меня не чистый характер восхищения именно живописью. Я присоединяю ассоциации исторические, литературные. Цвет, линия - что меня останавливает? Тициан? Рафаэль? Не знаю. Я знаю кое-что о живописи, но не могу судить о ней. Когда мне говорят - Микеланджело, то я с большим интересом думаю не о его произведениях, а о том, что он писал "Суд" лежа на подмостках на спине и краска капала ему на лицо. Когда думаю о Ван Гоге, то не вижу куст сирени, а человека, который отрезает себе бритвой ухо.
Конечно, нельзя не понимать того чуда, что, например, Боттичелли в своих линиях современен нам по мышлению.
Маленькие картинки Леонардо в том алтаре, в который вделаны они в Эрмитаже, трудно оценить мне, который первым делом хочет не поверить, что писал Леонардо, потом любуется только алой шнуровочкой на груди мадонны...
Она выходит между натянутыми влево и вправо створками зеленого, как оказалось, занавеса, босая, с одеждой, унесенной ветром в сторону. Мне кажется, что "ангел Рафаэля так созерцает Божество", - это об ангелах, которые, подперев подбородки, созерцают Сикстинскую. Пушкин, не побывавший за границей, знал, разумеется, эту картину по копиям.
Там оптическое чудо. Ангелы, облокотившись о что-то земное, смотрят вперед и, хотя она идет позади них, убеждены, что они ее видят.
Золотые тона тициановских картин... Что это - Венеция? Кто ее строил? Почему она воплощенная сказка? Люди ходили в масках. Кто это придумывал? Кто придумал гондолы? Пение на гондолах?
Венецианки золотые. Славянки? Надо прочесть историю Венеции. Бонапарт осматривал каналы с точки зрения нападения на нее. Она вся голубая рябь, в которой отражается золото соборов. Впрочем, я этого всего не видел. Однако есть Ка-налетто. У него, кстати говоря, она не так сказочна, как ее представляешь. Широкая даль.
Там жил Байрон. У Эдгара По есть непонятный рассказ о Венеции. В Венеции служил в каком-то посольстве Руссо. Как много было сказочных, странных и знавших эти свои свойства стран - Венеция, Тулуза. Какое-то свойство человеческого сознания, проявлявшееся тогда, - наряжаться в странные одежды, строить филигранные дома, сочинять любовные кодексы. Более высокая, черт возьми, степень культуры в сравнении с нами. Во всяком случае, изящней!
Подумать только - и среди всего этого Тициан, Джорджоне с их Флорами и Ледами. Какое-то божественное варварство, какой-то рай!
Здания со статуями о чем-то рассказывают. В немоте этих фигур со свитками, мечами, циркулями ясно слышишь рассказ, повествование. Они рассказывают историю.
Подойдем к этому старцу ближе. Глаз у него нет, есть только их вырез, но кажется, что видишь глаза, которые смотрят кверху. Он держит циркуль. Кто это, Архимед?
Много, много статуй. На их плечи падают листья, а вечером ляжет лунный свет.
Вот юноша, опустивший впереди себя меч, как бы пересекая кому-то путь. Острие меча на расстоянии ладони от меня абсолютно неподвижно. Не может не тревожить нас эта абсолютная вечная неподвижность статуй, опущенных носов, лбов, пальцев, чье расположение говорит о беседе, о споре, о бурном доказательстве. Здание со статуями действует на нас озадачивающе. Что-то хочется понять, остановившись возле них. И понимаешь: эти здания говорят, они рассказывают что-то. Что? Историю.
Идешь по лугу, приближаясь к статуям. Они белы, некоторые лицом на тебя, другие по краям в профиль. Как это красиво. Подходишь ближе и видишь, что по ним ползают и бьются крылами насекомые, что у сандалий некоторых на углу цоколя лежит ореховая скорлупа. Если повезет, увидишь выглянувшую из-за ноги Софокла ящерицу. Какая тишина! Какая тишина!
Есть в Третьяковке бюст Екатерины Второй работы Шубина. Ее лицо туманно, смотрит как бы действительно из дали времени, прекрасное (что не соответствует действительности) лицо.
Она была, по всей вероятности, маленькая, но осанистая. Вокруг лак паркетов, бриллианты, свечи, арапчата, игральные карты, тоже маленькие, из атласа как бы в пудре. Все это, вероятно, было очень красиво. Ордена мерцали на сановниках и генералах при свете свечей.
Суворов вбегает в такой зал и швыряет в арапчонка шляпой. Шляпа некоторое время, упав, скользит по паркету. Арапчонок улепетывает.
Екатерина предсказала возвышение и цезаризм Бонапарта. Вставала в шесть часов утра, сразу же садилась к столику писать. Письменная женщина, привычка, любовь к писанию, графомания. Любимое блюдо - свинина с кислой капустой, немецкое.
Как трогателен Ван Гог, когда он пишет своему брату, торговцу красками, насчет того, что и он, брат, мог бы научиться живописи - не такая уж это, в конце концов, трудная штука! Здесь и отказ от взгляда на себя как на нечто необыкновенное, и извинение за свой, как может показаться почти каждому, легкий хлеб.
Так же трогательно восхищение его художниками, от которых теперь не осталось даже имени. Какие-то современные ему голландские художники, которых он считал гораздо выше себя, сравниться с которыми для него было бы пределом мечтаний...
- Вот если б я писал, как такой-то!
Он не только великий художник, он и замечательный писатель: прочитайте, как описана им его картина "Ночное кафе".
Сперва отрезал себе ухо, написал свой портрет без уха - потом застрелился.
На всю жизнь осталась в памяти тень рояля на полу кафе - не менее ярко, чем черные копья Веласкеса в "Сдаче Бреды". Вместе с тем это рисунки сумасшедшего - эти человеческие фигурки в ночном кафе кажутся подмигивающими и с расплывающимися улыбками.
Мне кажется, что советскому читателю следовало бы прочесть "Дневник" Делакруа. Книга вышла в 1950 году - давно, надо полагать, ее заметила критика, о ней, наверно, писали - что ж, запоздало, но тем не менее хочется заговорить о ней и нам...
Эжен Делакруа - это тот художник, который написал очень популярную картину "Свобода ведет народ Франции", отразившую Революцию сорок восьмого года. Помните, та картина, на которой на первом плане парижский гамен с пистолетом почти рядом с титанической женской фигурой во фригийском колпаке... Впереди труп молодого рабочего, вокруг фигуры восставших с ружьями наперевес, клубы дыма, огонь. Не то баррикада, не то атака...
Когда читаешь "Дневник" Делакруа, прямо-таки чувствуешь рядом движения физического тела. Это не дневник, а сама восстановленная заклятиями ума жизнь. Тем страшней замечать мне, что книга прочитана уже до середины. Он еще пишет свои записи; он хоть и болеет, но еще, как и все мы, думает, что этого - смерти - с ним не случится... А мне стоит перевернуть некий массив страниц, и вот его уже нет, этого Делакруа, так любившего поесть и писать красками!
Это сильный ум, причем рассуждающий о вопросах нравственности, жизни и смерти, а не только об искусстве.
Он удивительно интересно говорит, между прочим, о Микеланджело. Тот был живописцем, по мнению Делакруа, все же живописцем, а не скульптором. Его статуи повернуты к нам фасом, это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами. Нельзя себе представить, замечает Делакруа, Моисея или Давида сзади. Может быть (это мы уже скажем от себя), у Микеланджело были как раз прорывы в иное, не свойственное его веку, туманное, романтическое мышление, которое именно Делакруа и мог бы заметить? Может быть, Микеланджело уже видел те клубящиеся фигуры, которые впоследствии появились под резцом Родена? Во всяком случае, хочется защитить Микеланджело даже от Родена! Во всяком случае, хочется защитить Микеланджело даже oт Делакруа! Вспомним, кто был тот. Даже одна маленькая деталь его биографии способна потрясти: незадолго до смерти он нарисовал в своем дома на стене, сопутствовавшей поворотам лестницы, смерть, несущую гроб.
Но закончим ли сегодняшнюю запись на этом мрачном слове? Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что. Однажды, когда я возвращался по улицам темной, блокированной английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в полутемных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали, как называется... И я помню, что он крикнул мне, спрашивая:
- Братишка!
Я был братишкой матросов. Как только не обращались ко мне за жизнь - даже "маэстро"! "Браво, маэстро!" - кричал мне болгарин Пантелеев - концертмейстер, на каком-то вечере поэтов в Одессе, но, когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:
- Братишка!
Не стал читать страницу из "Дневника" Делакруа, представляющую собой целую статью об искусстве, чтобы не прочесть ее кое-как, на ходу... Все меньше остается этого "Дневника", ему уже около шестидесяти лет, все, что он пишет сейчас, великолепно по уму и тонкости. Иногда можно обвинить его в желании по-писательски подвести под концовку или в этом роде - именно показать себя писателем... Ну что ж, и это у него получается превосходно. Так, восторгаясь одной из картин Рафаэля и чувствуя вместе с тем ее несовершенство, он пишет, что "Рафаэль грациозен, даже прихрамывая". Конечно, это явная "фраза", "концовка", но как хорошо!
Был у Казакевича, который всегда на высоте ума, образования, темперамента. Мог бы он написать хорошую пьесу? Именно этот вид литературы - даже странно чудо создания события называть литературой! - является испытанием строгости и одновременно полета таланта, чувства формы и всего особенного и удивительного, что составляет талант.
Когда сочинял свою музыку Моцарт, весь мир был совершенно другой, чем в наши дни. Он сочинял при свечах - может быть, при одной толстой, которую нетрудно вообразить со стелющимся, когда открывают дверь, языком; на нем был шелковый зеленый кафтан; он был в парике с буклями и с косой, спрятанной в черный шелк; он сидел за клавесином, как будто сделанным из шоколада; на улице не было электрического света, горели... мы даже не сразу можем представить себе, что горело! Факелы? Фонари с ворванью?
Короче, это было еще до Наполеона. Нет, еще до Великой Французской революции, когда редко кому приходило в голову, что существование королей - удивительно. Совсем, совсем иной мир!
И вот то, что сочинил Моцарт, мы в нашем ином мире, который отличается от того, как старик от ребенка, помним, повторяем, поем, передаем друг другу... Беремся за рычаги наших машин, включаем ток, чтобы золотая сеточка, которую создавал его мозг, никак не исчезла, чтобы она существовала всегда и была передана в следующий иной мир...
Он дергался в детстве, был, как теперь говорят, припадочный. На портретах он красив, скорее, он был носат, да и маленького роста. Вероятно, наиболее выразительной была его внешность, когда он был вундеркиндом: маленький, носатый, в конвульсиях. Странно представить себе, что в его жизни были и кабачки, и попойки, и легкомысленные девушки, и драки. В Праге, на премьере "Дон-Жуана", он предложил в последнем акте Дон-Жуану перед приходом статуи спеть куплеты Керуби-но из "Свадьбы", чтобы рассмешить пражцев, любивших "Свадьбу!". Я не читал писем Моцарта, сохранились ли они?
Прослушиваю все время Девятую Бетховена.
Как мог Лев нападать на это произведение - Лев, с его любовью к героическому, с его небом над умирающим Андреем? Это ведь то же самое. Вероятно, от зависти - вернее, не от зависти, а от требования, чтобы не было каких-либо других видений мира, кроме его...
Это симфония об истории мира на данном, как говорится, этапе. Там литавры и барабан стреляют, как пушка именно тех времен - короткая с двойным звуком выстрела пушка, одну из которых потом полюбил Бонапарт. Расстрел роялистов на паперти Сен-Роха. Может быть, все это есть в Девятой. Во всяком случае, это история. Зачем бы тогда эти пушки? Это ж не иллюстрация.
Вместо огромной толпы музыкантов, старых, обсыпанных пеплом, в обвислых жилетах людей, вместо груды нотных тетрадей, вместо целого леса контрабасов, целой бури смычков и еще многого и многого - хотя бы грохота пюпитров, кашля в зале и писка настраиваемых инструментов - вместо всего этого у вас в руках элегантно посвистывающая при прикосновении к ней пластинка, черная с улетающим с нее каждую секунду венком блеска. Результат тот же: та же бетховенская симфония, истинное реальное воплощение которой в конце концов неизвестно; это и вышеописанный хаос оркестра, и пластинка, и рояль самого Бетховена, а еще перед этим просто ветер или звук кукушки и переход Наполеона через Альпы.
О, этот компиляторский зуд! Прочтя или узнав о чем-то, тут же хочется пересказать. Этим буквально страдал Стендаль. Он пересказывает целые сочинения.
Мне хочется пересказать о Гекторе Берлиозе, который был неудачно влюблен в оперную певицу; смотрел на сцену, когда она пела, как зачарованный; приехал в Петербург; болел под конец жизни психически - черной меланхолией.
Хочется пересказать о Листе, у которого в каждом городе, куда он приезжал играть, в конце концов обязательно приобреталась любовница, каковую, покидая город, во избежание ламентаций, запирал на ключ. Гейне называет его гениальным Иванушкой-дурачком, говорит, что это он сам себе присылал на концерты венки. Такой уж ли дурачок? Он, кстати говоря, полюбил русских композиторов, популяризировал в Европе Глинку.
Играл он на двух роялях - не одновременно, разумеется, а переходя от одного к другому, причем они стояли, если можно так выразиться, спиной друг к другу... Это делалось для того, чтобы публика могла видеть его со всех, так сказать, сторон.
Под старость он стал монахом. Или аббатом? Во всяком случае, есть портрет его, где он сидит в рясе, старый, сложив на коленях кисти рук и запрокинув лицо - старое, беззубое лицо с откинутыми назад волосами.
Сейчас он называется Ференц Лист, он венгр.
Живого Шаляпина я не слышал. Только в пластинках. Это очень приятно слушать, именно - физически. Иногда как будто слышен колокол, иногда кажется, что не один человек поет, а хор. Но только физически - для уха, в том смысле, как понимал удовольствие от музыки Стендаль. Модулировка, выражение, так называемая игра - все это в пределах обычной театральной условности, рычания, многозначительности. Конечно, когда театрально плачет огромного роста здоровый с прекрасным голосом человек, то это, во всяком случае, любопытно.
Он умер в Париже относительно молодым - шестидесяти лет. Похоронен на Пер-Лашез под плитой с надписью - лирический артист, что на французский манер означает оперный артист.
О нем много легенд.
Эта легендарность присуща самой личности. Может быть, она рождается от наружности? Скорее всего, рождается она в том случае, если в прошлом героя совершилось нечто поражающее ум. Так, Горький был бродягой, так, Шаляпин вышел из народа, так, Маяковский был футуристом.
Как бы там ни было, это была необыкновенная слава.
Я постарел, мне не очень хочется писать. Есть ли еще во мне сила, способная рождать метафоры? Иногда хочется проверить себя в этой области. Когда-то Римский-Корсаков писал, что вдруг его охватил страх по поводу того, могут ли еще в нем рождаться мелодии. Он проверил, поставив себе целью написать нечто, зависящее именно от мелодий, и убедился, что они еще рождаются в нем...
Римского-Корсакова я представляю себе только по портрету (Серова? Репина?), на котором он похож на покойника - с длинной просвечивающей бородой и хрупким лбом. Он был морским офицером и совершил кругосветное плавание.
Я помню то сильное впечатление, которое произвела на меня "Шахерезада" - спетая мне частями художником Соколиком в Одессе, когда мы все были юны.
- Слышишь, это перекликаются корабли? - говорил Соколик. - Слышишь?
Действительно, перекликались корабли. Я тогда впервые познал существование симфонической музыки, вошедшей в мое сознание каким-то еще не постигаемым мною, но уже поразившим меня обстоятельством.
Нет, я не умею и не хочу писать.
Я лежал у ее подножья, и она пела. Гора пела глубокую, гудящую, тремолирующую песнь, и я знал, что она светится окнами на разной высоте, желтыми ночными окнами, на которых чернеют нестрашные кресты...
Диван был ковровый, голова моя терлась о ковровую решетку, и, уходя в коридоры сна, я слышал, как поет гора музы ку вальсов и романсов - вероятно, кружа за окнами человечков и останавливая в неподвижности некоторые задумавшиеся лица.
Писать можно начиная ни с чего... Все, что написано - интересно, если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил.
Какое царственное письмо написал Чайковский по поводу переложения молодым Рахманиновым для четырех рук "Спящей красавицы"! Он, автор произведения, которое другой автор перекладывает в иную форму, укоряет этого автора в чрезмерном поклонении авторитету (то есть ему самому, Чайковскому), в отсутствии смелости и инициативы. Другими словами, ему понравилась бы, если бы Рахманинов отнесся к его произведению разрушительно!
Кто-то сказал, что от искусства для вечности останется только метафора. Так оно, конечно, и есть. В этом плане мне приятно думать, что я делаю кое-что, что могло бы остаться для вечности. А почему это в конце концов приятно? Что такое вечность, как не метафора. Ведь о неметафорической вечности мы ничего не знаем.
Я твердо знаю о себе, что у меня есть дар называть вещи по-иному. Иногда удается лучше, иногда хуже. Зачем этот дар - не знаю. Почему-то он нужен людям. Ребенок, услышав метафору, даже мимоходом, даже краем уха, выходит на мгновенье из игры, слушает и потом одобрительно смеется. Значит, это нужно.
Мне кажется, что я только называтель вещей. Даже не художник, а просто какой-то аптекарь, завертыватель порошков, скатыватель пилюль. Толстой, занятый моральными, или историческими, или экономическими рассуждениями, на ходу бросает краску. Я все направляю к краске.
Я помню, Катаев получал наслаждение от того, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай. Он ржал, когда это у меня получалось. С каким внутренним отзвуком именно признания, одобрения пересказывает Толстой бодле-ровские "Облака", хотя и хочет показать их "никчемность". С каким также восхищением рассказывает он о "муравских" братьях Николеньки - тоже, по существу, метафоре.
На старости лет я открыл лавку метафор.
Знакомый художник сделал для меня вывеску. На квадратной доске размером в поверхность небольшого стола, покрытой голубой масляной краской, карминовыми буквами он написал это название, и так как в голубой масляной краске и в карминовых буквах, если посмотреть сбоку, отражался, убегая, свет дня, то вывеска казалась очень красивой. Если посмотреть сильно сбоку, то создавалось впечатление, как будто кто-то в голубом платье ест вишни.
Я был убежден, что я разбогатею. В самом деле, у меня был запас великолепных метафор. Однажды даже чуть не произошел в лавке пожар от одной из них. Это была метафора о луже в осенний день под деревом. Лужа, было сказано, лежала под деревом, как цыганка. Я возвращался откуда-то и увидел, что из окна лавки валит дым. Я залил водой из ведра угол, где вился язык пламени, и потом оказалось, что именно из этой метафоры появился огонь.
Был также другой случай, когда я с трудом отбился от воробьев. Это было связано как раз с вишнями. У меня имелась метафора о том, что когда ешь вишни, то кажется, что идет дождь. Метафора оказалась настолько правильной, что эти мои вишни привлекли воробьев, намеревавшихся их клевать. Я однажды проснулся от того, что лавка трещала. Когда я открыл глаза, то оказалось, что это воробьи. Они прыгали, быстро поворачивались на подоконнике, на полу, на мне. Я стал размахивать руками, и они улетели плоской, но быстрой тучкой. Они порядочно исклевали моих вишен, но я не сердился на них, потому что вишня, исклеванная воробьем, еще больше похожа на вишню, - так сказать, идеальная вишня.
Итак, я предполагал, что разбогатею на моих метафорах.
Однако покупатели не покупали дорогих; главным образом, покупались метафоры "бледный, как смерть" или "томительно шло время", а такие образы, как "стройная, как тополь", прямо-таки расхватывались. Но это был дешевый товар, и я даже не сводил концов с концами. Когда я заметил, что уже сам прибегаю к таким выражениям, как "сводить концы с концами", я решил закрыть лавку. В один прекрасный день я ее и закрыл, сняв вывеску, и с вывеской под мышкой пошел к художнику жаловаться на жизнь.
Тепло, мокро. Это похоже на апрель, но только нет того полета, который охватывает тебя в апреле, нет внезапного появления в небе голубизны, нет ледка, тающего, как сахар...
У Владимира Нарбута есть чудесные строчки об апреле.
Благословение тебе, апрель,
Тебе, небес козленок молодой.
"Небес козленок молодой" - это очень, очень хорошо. Правда, он потом исправил на "тебе, на землю пролитый огонь"... Конечно, нельзя сравнить, насколько небес козленок молодой лучше на землю пролитого огня.
Это стихотворение вообще великолепно. Какое-то странное, только поэту понятное, но волнующее нас настроение.
Мне хочется о вас, о вас, о вас
Бессонными стихами говорить.
Над нами ворожит луна-сова,
И наше имя и в разлуке - три.
Так, видя весну (апрель), он видит знаки Зодиака - агнец, сова... Знаю, знаю, что сова не знак Зодиака. Но почти, но могла бы быть. Во всяком случае, он населяет весеннее небо зверями.
О, эти звериные метафоры! Как много они значат для поэтов!
Велемир Хлебников дал серию звериных метафор, может быть, наиболее богатую в мире. Он сказал, например, что слоны кривляются, как горы во время землетрясения.
Он (Хлебников) не имел никаких имущественных связей с миром. Стихи писал на листках - прямо-таки высыпал на случайно подвернувшийся листок. Листки всовывались в мешок. Маяковский приводит свидетельство о том, что, читая кому-либо стихи, Хлебников чаще всего не считал нужным даже дочитывать их до конца. Говорил: "Ну и так далее!" Сын математика, он занимался какой-то мистической смесью истории и математики - доказывал, например, что крупные события происходят каждые двести семнадцать лет. (Я видел эти его вычисления изданными - они назывались "Доски судьбы", на плохой, желтоватой, но чем-то приятной бумаге времен военного коммунизма: большие афишные буквы и прямо-таки целая сирень цифр.)
Читать его стихи стоит большого труда - все спутано, в куче, в беспорядке. Внезапно появляется несравненная красота!
Походы мрачные пехот,
Копьем убийство короля,
Дождь звезд и синие поля
Послушны числам, как заход.
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме,
И уважение к числу
Растет, ручьи ведя к руслу.
Или (в обращении к поэту-символисту Вячеславу Иванову, знатоку греческой и римской поэзии):
Ты, чей разум стекал, как седой водопад,
На пастушеский быт первой древности...
Когда получаешь общее впечатление от его стихов, видишь в нем именно славянина, причем славянство захвачено им от севера до Адриатики.
Однажды, когда Дмитрий Петровский заболел в каком-то странствии, которое они совершали вдвоем, Хлебников вдруг встал, чтобы продолжить путь.
- Постой, а я? - спросил Петровский. - Я ведь могу тут
умереть.
- Ну что ж, степь отпоет, - ответил Хлебников.
Степь отпела как раз его самого! Мы не знаем, где и как он
умер, где похоронен... Недавно умер и Петровский - казак с трубкой в зубах, вечно державшийся за эту трубку и никогда, казалось, не поворачивавшийся к вам лицом, а всегда поглядывавший на вас из-за плеча, из-за трубки.
Очень богато представлены звериные метафоры у чувашского поэта Якова Ухсая. Мне как-то дали для рецензирования его большую поэму "Перевал", и я нашел там чудеса в этой области. Солнце, говорит он, на закате так близко от земли, что даже заяц может достать до него прыжком. Корову он сравнивает с ладьей, бегущую лошадь, видимую вознице, с ручьем... картофель у него похож на бараньи лбы, рожки ягнят - восковые, рога барана - как колеса... и, наконец, ботинки франта кажутся ему желтыми утятами!
У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня.
Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как прикладываю лицо к дереву - к лицу брата, писал я; и дальше говорил, что это лицо длинное, в морщинах и что по нему бегают муравьи.
У Ренара похоже о деревьях: семья деревьев. Она примет его к себе, признает его своим... Кое-что он уже умеет: смотреть на облака, молчать.
Мне всегда казалась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову.
Я уже давно собираюсь написать о звериных метафорах. Под этим термином я подразумеваю такое образное выражение, в котором фигурирует животное - причем оно может фигурировать либо так, что оно призвано для создания образа, так что в нем, так сказать, образ.
В животном любого вида таятся неиссякаемые художественные возможности. Среди его перьев скользит по его клюву, мерцает в глазах, сидит в сжатой его лапе...
Мне, например, кажется, что я мог бы из пасти любого животного вытаскивать бесконечную ленту метафор, так сказать, о нем о самом.
И не только из пасти тигра. Из клюва сойки, чайки. Как-то я услышал, как кто-то из компании, шедший по набережной, сказал о летящей чайке, что она элегантна.
- Элегантная чайка.
Все засмеялись, а мне кажется, что это правильно сказано о чайке.
Еще чайка - самолет. Ну, это как раз рядом.
Когда через узкую дверцу входишь в самолет, видишь чехлы, надетые на кресла, и слышишь дезинфекционный запах. Это вызывает воспоминание о больнице. Воспоминание это пугает. В самолете довольно широкий проход между двумя рядами двойных же кресел, прижатых к стенкам. Проход, я бы сказал, не слишком более узкий, чем в автобусе. Идешь по этому проходу, поднимаясь кверху, так как передняя часть са молета довольно высоко приподнята по сравнению с осталь ным телом.
Не зная, кто я, меня приняли за более старого человека, чем я есть на самом деле, и просили меня не волноваться, когда я узнал, что мне придется уступить свое место впереди женщине с ребенком. Я сказал, что я и не волнуюсь.
Воздух в окнах был серый. Уже началась осень. До этого я пережил раздражение в связи с тем, что отправление самолета несколько раз откладывалось, а также в связи с тем, что прочел идиотскую новеллу Стефана Цвейга, купленную на вокзале в киоске, и поэтому все неприятные ощущения сгущались. Я занял место у окна - обыкновенное, почти автомобильного типа окно в аккуратной деревянной отшлифованной раме. Усевшись, я увидел в окне ту часть самолета, которую мне было суждено в дальнейшем видеть уже постоянно во весь путь и соединять с которой мне пришлось все те напряженные мысли, которые приходят человеку во время полета. Эта часть состояла из того, что я назвал бы крышей и что на самом деле является крылом, а также из некоей подобной быку вещи, которую я не знаю как назвать с первого раза и хочу попробовать описать еще раз.
В один из таких сентябрьских дней я вышел на балкон, чтобы... посмотреть, чисто ли небо. Не помню. На балкон, выходивший во двор с маленьким, окантованным в аккуратный камень садиком посередине.
В сентябре там цвело что-то яркое, алое, скомканное...
(Пожалуй, я писал прежде - в тех рукописях - лучше. Что это за эпитет - скомканное? Не точно. Я понимаю, в чем дело, понимаю, что мне хочется передать - но это не "скомканное"... К черту!)
Я ни разу ни в детстве, ни в юности, ни позже в зрелые годы - словом, ни разу во всю жизнь не слышал пенья соловья... Для меня это была ложь, условность - когда я сам говорил о соловье или читал у других.
И как-то раз, уже совсем в зрелые годы, когда я жил в Подмосковье, днем, точнее в полдень, когда все было неподвижно среди птиц и растений, вдруг что-то выкатилось из тишины - огромное звенящее колесо - и покатилось... За ним сразу другое колесо, за этим еще... И сразу же это прекратилось.
Эти колеса были, безусловно, золотыми, они были выше деревьев, катились стоймя, прямо и, вдруг задребезжав, мгновенно исчезали - как не было их!
Я посмотрел на того, кто стоял рядом со мной. Тот кивнул в ответ. Он услышал вопрос, который я не задавал ему, только хотел задать: не соловей ли?
И, кивнув, он ответил:
- Соловей.
Видели вы птицу секретаря?
Она довольно высокого роста, так с человека. Она как бы в желтых коротких панталонах, в белых чулках, во фраке, в жилете, в очках и с пером, заложенным за ухо. Она быстро и деловито ходит по клетке, несколько раздраженно, взволнованно, как секретарь, что-то напутавший и собирающийся оправдаться перед начальником, если тот его только примет.
По всей вероятности, представители какой-то английской торговой компании, оказавшись в Африке или в Австралии, увидели эту птицу, так сказать, впервые, поразились ее сходству именно с секретарем и с хохотом дали ей это имя.
Можно было бы назвать ее Меттерних.
Она поедает змей.
Голоса ее я не слышал.
Они идут покачиваясь, и так как они не слишком поднимаются над землей, то когда идешь по ту сторону травы, а они шествуют по эту, то кажется, что они едут. Гоготание - это сравнительно громкий звук - во всяком случае, ясно чувствуется, что это какая-то речь, да, да, какой-то иностранный язык. Клювы у них желтые, как бы сделанные из дерева - сродни ложкам. Они деловито проезжают мимо вас, безусловно разговаривая между собой и именно о вас, да, да, они кидают на вас взгляды, когда проезжают мимо. Можно поверить, что они спасли Рим. Они прелестно выглядят на воде. Нагнув голову, они вдруг поднимают столько воды, что могут одеться в целый стеклянный пиджак. Теперь они уже не едут, а скользят - всей своей белой подушкой по синей глади. Вдруг они сходятся все вместе, и тогда кажется, что на воде покачивается белый крендель.
Тут разыгралась звериная драма. Большой, рыжий, в зрелых годах кот, с почти волочащейся по земле, как у бизона, шерстью, повадился охотиться на голубей, которых берег хозяин. Поставили капкан на него, он попался. Однако хоть и с ущемленной ногой, он пошел домой, волоча с собой присоединившееся к этой ущемленной ноге все тяжелое, громоздкое и страшное сооружение - капкан...
Драма состояла в том, что кот, не раз задиравшийся с полуовчаркой Чайкой и оставлявший ее в дураках и рассерженной, на этот раз, задравшись, из-за поврежденной ноги оплошал, и полуовчарка его разорвала.
Я хорошо знал этого высокомерного, почти с брезгливостью не принимавшего моих заигрываний кота. Трупа я, к счастью, не видел. Вероятно, раны в соединении с рыжей шерстью выглядели страшно и недосягаемо красиво. Это их, зверей, дело; нас не касается, что они разрывают друг друга. Странно, что он был побежден собакой - этот зверь, о котором у Бре-ма сказано, что он силен и хорошо вооружен. Правда, нога была повреждена капканом.
Я видел вскоре после драмы полуовчарку-победительницу. Она валандалась по саду со щенком, подпрыгивавшим за ней. Щенок подбрасывал толстый задик, смотрел на меня снизу - с высоты не выше цветов, среди которых я его остановил, - анютиных глазок. Овчарка-мать смотрела себе вдаль, оглядывалась на щенка. Никто бы не догадался, что она разорвала недавно живое существо. Наоборот, она казалась симпатичной собакой, и я, позвав: "Чайка, Чайка", гладил ее по плоскому лбу - с горячей, как мне показалось, шерстью и вызывающей сухость в ладони. Цвели анютины глазки, иногда похожие на военные японские маски, довольно высоко стоял жасмин, самый красивый цветок на свете, стучал дятел, которого я никогда не видел, хоть он и стучится ко мне давно.
Я однажды шел из гостей по темной лестнице, ночью, и вдруг услышал движение, которое быстро ко мне приблизилось. И в тот момент, когда вернее всего было ожидать нападения, удара чем-нибудь смертельным, моей руки коснулось что-то теплое. Это тоже меня испугало, но побежавший от руки испуг уже по дороге к мозгу превратился в умиление и радость. Я понял, что это маленькая собачка Джек, живущая в этом парадном и знающая меня. Так, вместо наибольшего врага, которого я по законам должен был встретить, я встретил наибольшего друга.
Маленький черный Джек погиб под грузовиком.
Один американец, проведший всю жизнь в Африке, где он охотился на зверей, из которых затем сооружал чучела для Колумбийского университета, написал книгу об этой своей жизни. Там есть удивительные вещи. Я еще вернусь к этому предмету, а сейчас, чтобы закончить воспоминание, передам его тревоги по поводу того, можно ли убивать гориллу. Этот вопрос волновал тогдашнее, только недавно встретившееся с гориллой общество. В самом деле - уж очень похож этот зверь на человека! Да и зверь ли?
Словом, тревога заканчивается успокоением в том смысле, что убивать гориллу можно. Следует описание охоты на гориллу. Они появляются на вершине горы - огромные, каменно-подобные силуэты - охотники в страхе... Однако у горилл нету этой черной палки, из которой появляется огонь. Горилла убит, его свежуют - будут делать чучело, и он будет вскоре стоять в стеклянном кубе, рыжий, в длинных волосах, чем-то напоминающий кокосовый орех, с отвисшей от навязанной ему чучельником челюстью и показывая злые десны.
Я стал гладить кота, лежавшего на сундуке в чужой квартире. Как видно, его никто не гладил с достаточным чувством - он поддался ласке, ему понравилось. Чистый, изящный, сильный - он встал и выгнул спину. Затем он несколько раз с дружественным вниманием взглядывал на меня - не только со вниманием: с одобрением тому, что вот я пришел из темноты, неизвестный человек, и стал гладить его. В темноте передней на уважительной высоте висела при этом треугольная его морда с глазами, светившимися таким зеленоватым светом, каким светятся в летнюю ночь планеты.
Погладив, я ушел. Он пошел за мной - сперва по сундуку, потом мягко скинул себя с сундука и побежал по коридору. Мне было приятно думать, что на несколько минут я привязал к себе нечто вроде тигра.
Умер хозяин лисицы - журналист Миклашевский. Почему хозяин лисицы? Он воспитал лисицу - дикую, случайно оказавшуюся у него. В последние годы на Гоголевском бульваре появлялся человек, на руках у которого находилась лисица. Она сидела спиной к движению и смотрела, таким образом, через плечо несущего. Дети бежали за ними. Человек садился на скамью, лисица продолжала смотреть через его плечо; дети толпились поэтому по ту сторону скамьи. Она чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Глаза у нее были, как у девочки, чуть, впрочем, светлее, чем бывает у девочек, и чуть, я бы сказал, немотивированней.
Миклашевского я знал лично. Он рассказывал мне, как в день, когда у них в доме зажгли елку, лисица сидела вместе с детьми и, как зачарованная, смотрела на елку Можно представить себе эти глазки с отражающимися в них огоньками свечек!
В последний раз я видел Миклашевского в "Литгазете" с год тому назад. Знал я его мало. Человек, любящий животных, - поэт.
Сегодня во второй половине дня началась весна.
Кошка вышла из маленького чердачного окна на листы крыши, освещенные луной. Она прошла, исчезнув через тень от трубы на мгновение, через тень от трубы, потом опять пошла вниз по листам, по покатости, сама бросая впереди себя корчащуюся тень, дошла до желоба и пошла вдоль него, бросая тень уже позади себя, и скорее треугольную, чем корчащуюся. Здесь она шла, имея сбоку после некоторого пространства вершины деревьев с листвой, которая хоть от тихого ветра сыпалась вдруг сверху целой лавиной и потом уходила опять кверху, уже не желая сравниваться с целой лавиной.
Кошка, идя вдоль желоба, нагнулась над чем-то лежащим в нем, шевельнула это что-то лапой, держа комок головы опущенным, отчего он стал каким-то бедным; потом она шла довольно долго по листам, освещенным желтым, гладким лунным светом, и, войдя в тень от более высокого дома, упавшую на крышу маленького, исчезла в ней, даже не дав никому заметить, какого она цвета.
По скошенному лугу ходили большие вороны и что-то ели. Это правда: они кажутся зловещими - какие-то духовные лица времени Людовика XVI, ханжи, мучители. Впрочем, вглядываясь обыкновенным взглядом, видишь просто сильную, здоровую птицу - и проникаешься к ней симпатией.
Они вдруг взлетали над лугом и летели, ища какого-нибудь другого, более богатого участка... Они летели низко, как видно, для того, чтобы увидеть то, что им нужно было увидеть. Их поджатые лапки проносились над лугом, крылья работали правильно, как новая машина, - тах, тах, тах...
Я шел за одной, уходившей от меня вперед. Сперва она не слышала или не боялась - потом взлетела, и взмахи ее крыльев как бы бросали мне: "Ах, оставь меня, оставь - не приставай!"
Я пошел в зоопарк, поставив себе целью увидеть только тигра. Ведь и эти картины, как и те, из масла, утомляют, когда видишь их сразу много! И тут, вдоль клеток, как и там вдоль рам, нельзя пробегать, лишь бы увидеть!
Итак, только тигра. Да, но тигр не сидит же в одной из первых клеток. Это гвоздь, это целое отделение, это финал третьего акта - тигр. Он вдали, и надо довольно долго идти к нему. Вот и пришлось мне все же увидеть кое-кого и кроме тигра. По мелкоте у входа я только скользнул глазами. Кто-то крохотный сидел возле своей будки. Силуэт ушек величиной в анютины глазки. Тяжело, точно на гигантской пробке, повернулся гриф...
Илья Сельвинский великолепно описал тигра. Морда тигра у него и "золотая", и "закатная", и "жаркая", и "усатая, как солнце". (Солнце, глядите, "усатое". Вот молодец!) Он говорит о тигре, что он за лето выгорел "в оранжевый", что он "расписан чернью", что он "по золоту сед", что он спускался "по горам" "драконом, покинувшим храм", и "хребтом повторяя горный хребет". Описывая, как идет тигр, Сельвинский говорит, что он шел, "рябясь от ветра, ленивый, как знамя"; шел "военным шагом" - "все плечо выдвигая вперед". Он восклицает о тигре: - Милый! Умница!
"Ленивый, как знамя", это блистательно, в силу Данте. Чувствуешь, как хотел поэт, увидев много красок, чувствовал, что есть еще... еще есть что-то. Глаза раскрывались шире, и в действительно жарких красках тигра, в его бархатности поэт увидел "ленивое знамя".
Вот черт возьми! Здороваешься, разговариваешь, с челове- ком, не оценивая, что этому человеку приходят мысли, может быть, третьи, четвертые, пятые по порядку от тех мыслей, которые были заронены теми...
Самый красивый из земных звуков, которые я слышал, - это рыканье льва!
Что это? Как будто взрыв - во всяком случае, есть затухающий раскат... Во всяком случае, хочется назвать этот звук пороховым.
Что за гортань, рождающая такой мощи и вместе с тем сдержанности, такой, я бы сказал, ненарочитости звук? Он не посылается львом далеко, а как бы только появляется вокруг пасти. Он как будто отбрасывает его, как короткое, изорванное пламя.
Я вхожу в цирк опоздав, и передо мной, на желтой арене, девочка в юбке, подбрасывающая нечто вроде кеглей, жонглерша, и, пока я смотрю на ее откинутое лицо с подпрыгивающими за кеглями глазами, вдруг раздается из-за кулис рыкание льва. Доносится не только сам он, но и эхо его, дуновение, заставляющее сердце радоваться и чувствовать нежность к этому мягко-лапому, цвета песка, с гневными складками на лбу, чудовищу.
Чего только не приходит в голову, когда стоишь перед клеткой обезьяны!
Когда европеец увидел ее впервые? Пожалуй, нет ни упоминаний о ней, ни тем более ее изображений в том, что дошло до нас от азиатских царств, от Греции и Рима.
Обезьяна, слухи о которой вдруг, после конца Рима и всей той эпохи, которую мы называем древним миром, стала для Европы загадочным, почти бесовским существом, как-то перестали доходить до Европы. В самом деле, трудно представить себе обезьяну в нашем орнаменте, средневековом орнаменте даже у мавров. Чуть ли не в триумфе. Какой-то вал лег между золотым древним миром и Европой. Трудно представить себе идущий в Риме или в Афинах снег. Скажем, что он и шел там чрезвычайно редко. Да, но идет же он все время во Франции в эпоху, скажем, Меровингов - на севере Франции, на юге, идет в Германии - и в Италии, поскольку Генрих стоит на снегу именно босой, именно на снегу. Вдруг стал идти снег!
В этот раз я стоял в зоосаду перед клеткой шимпанзе. Я давно знаю это черное тело, этот черный овал, который я часто вижу издали сквозь щели в толпе. На этот раз я решил смотреть на него вблизи.
Первая мысль о том, что это зверь необычайной силы и как страшно было бы попасть к нему в лапы, когда к тому же приподнимается в ярости его верхняя губа, показывая зубы и розовые десны. Вторая мысль о том, как отдельно, как ни при чем лежит на досках его просторной клетки осенний лист, занесенный сюда ветром или сторожем. Третья мысль... Мыслей множество!
Когда я подходил к клетке, он шел на меня, похожий не то на банкира, который сейчас сядет за свое бюро, не то на бандита, который собирается напасть на банкира.
Большая, толстая серая бабочка, почти в меху, вдруг появилась у подножья лампы. Она тотчас же прибегла ко всем возможностям мимикрии, вероятно, почувствовав что-то грозное рядом - меня. Она, безусловно, сжалась, уменьшилась в размерах, стала неподвижной, как-то сковалась вся. Она решила, что она невидима, во всяком случае, незаметна. А я не только видел ее, я еще и подумал: "Фюзеляж бабочки!"
То есть я увидел еще и метафорическую ее ипостась -другими словами, дважды ее увидел...
Мне никто не объяснил, почему бабочки летят на свет - бабочки и весь этот зеленоватый балет, который пляшет возле лампы летом, все эти длинные танцовщицы. Я открываю окно во всю ширь, чтобы они хоть случайно вылетели, я тушу лампу... Я жду пять минут - уже как будто их нет в комнате... Куда там! Зажигаю лампу, и опять вокруг лампы хоровод сильфид - равномерно приподнимающийся и опускающийся, точно они соединены невидимым обручем, - иногда постукивающий по стеклу абажура... Почему это так? Что этот свет для них?
Что это такое все же - мое появление в мире, мое существование в нем и необходимость из него уйти?
Подумать, в миллионах лет и пространств существует хрусталик и моей жизни.
Кроме меня, живут разнообразнейшие живые создания. Например, тот странный жучок, который перебирается с кочки на травинку, когда бывает момент, когда он вдруг встает почти отвесно и когда понятно, почему он именно перебирается, а не быстро движется - он щит, крохотный щит, который тяжело поднимать на почти невидимых ножках. Как он называется, этот жук-щит? Я иногда думаю, что и ему дана жизнь - та же жизнь, что и мне, именно та же, потому что вряд ли существуют иные формы жизни, кроме единственной - жизни в смысле ощущения "я живу".
Из зверей на свободе я видел только... неужели только мышь и крысу?
Пожалуй, именно так. Не случилось же мне встретить в сосновом дачном лесу медведя! Не видел я также никогда ни несущегося по горизонту зайца, ни суслика, ни барсука.
Приходится довольствоваться мышью и крысой. С крысой у меня была встреча, заставляющая меня верить в легенды, связанные с этим зверем. В белую ночь возвращался я подвыпивший домой, в Европейскую гостиницу, и увидел бегущую на меня вдоль стены и, как видно, спасающуюся от какой-то травли крысу. Вдали, откуда бежала крыса, хохотали и улюлюкали шоферы... Я размахнулся ногой, чтобы ударить по крысе так, как ударяют по футбольному мячу. Тут же я потерял равновесие и упал, постыдно, по-пьяному, вызвав еще большее улюлюкание. Крыса, невредимая, пронеслась дальше, исчезая среди оград и кустов. Поднявшись к себе в комнату, я увидел на штанах пониже колена пыльный, осыпающийся от прикосновения след тонкополой крохотной ступни. Возможно, таким образом, что причиной моего падения было также и то, что меня толкнула крыса.
Александр Степанович Грин в одном из своих рассказов изображает целую историю вмешательства крыс в жизнь человека. Там говорится, что крыса по собственному желанию может принять вид любого существа. И в этом рассказе внезапно появляющийся перед героем хорошенький, изысканный мальчик, старающийся всей своей ласковостью отвратить героя от шага, как раз нужного и полезного ему, герою - является крысой.
Я наблюдал однажды за крысой, которая не знала, что за ней наблюдают. Нас разделяло толстое стекло магазинной витрины, она меня не слышала, жила полной жизнью. Обычно и она нас боится, и мы ее боимся - а тут нас разделяло стекло. Правда, мне все же стоило труда заставить себя смотреть, правда, все же душа уходила в пятки. Вот я и должен сказать, что ничего страшного передо мной не было: среди коробок с этикетками и бутылок, руша кое-что при своих движениях, перебегал с места на место, принюхивался, останавливался обыкновенный коричневый с черными блестящими глазками дикий зверек.
Мне никто не верит, что мое впечатление было именно таким.
- А хвост? - спрашивают. - У нее страшный хвост!
Нет, по-моему, и хвост нестрашный. Самый обыкновенный, длинный хвост зверька, какой мы видим на картинках и у хорька и куницы. Возможно, что наш страх перед крысой рождается от того, что она мгновенно исчезает, увидев нас. Исторически известно, что крысы способствовали распространению чумы - вот еще и отсюда страх древний, по воспоминаниям.
Ультрамариновая ваза с узким высоким горлом стоит в поле нашего зрения. Однако и не ваза, если можно увидеть чуть повыше этого синего горла и маленькую корону.
Хвост еще и не раскрыт. Он раскроет его, когда захочет. Он чуть не ждет, чтобы мы попросили его раскрыть. Иногда он его вообще не раскрывает. Хвост он волочит за собой как вязанку ветвей, довольно сухую и неказистую, причем некоторые ветви толсты - толще его синей, в блестящих синих чешуйках шеи.
Он топчется на широких лапах.
Древний мир восхищался павлином. На него смотрели цари, царицы, полководцы, сенаторы. Сейчас он потерял свое значение как украшение жизни. Впрочем, в Европе его роль исполнял и сейчас исполняет лебедь. Павлин мне и меньше нравится, чем лебедь; моя европейская, более северная душа чурается павлина, с которым ей как-то жарко; какая-то мигрень души появляется, когда видишь павлина.
Павлин - это восток. Он так же гол без полумрака, без сумерек, как и здания Альгамбры, как орнамент Эль-Регистана, как стихи восточных поэтов, как четкие, без дыма восточные фонтаны, чьи струи скорее вызывают представление о драгоценных камнях, чем о воде.
Лебедь, уплывающий в зеленоватый полумрак, где тина и ива, таинствен; павлин стоит среди солнца, ясный, покорный, жесткий, как власть деспота.
Эта собака уже, наверно, очень выросла. Она меня, когда была маленькой, очень любила - настолько любила, что прыжками своими прямо-таки не давала мне ступить шагу. Это пудель, который, по уверению Брема, предпочитает обществу собак общество людей. Я ее еще увижу, эту собаку, и убежден, что она меня узнает и опять проявит свою любовь.
Да здравствуют собаки! Да здравствуют тигры, попугаи, тапиры, бегемоты, медведи-гризли! Да здравствует птица секретарь в атласных панталонах и золотых очках! Да здравствует все, что живет вообще - в траве, в пещерах, среди камней! Да здравствует мир без меня!
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
Из Замоскворечья мне нужно было в центр. Вот я и решал, по какому мосту идти - по Каменному или по Москворецкому? Оба варианта были одинаково приемлемы, так как я стоял на углу Лаврушинского переулка. Он выходит на Кадашевскую набережную примерно в ее середине, и от этого места расстояние одно, что в сторону Каменного моста, что в сторону Москворецкого.
Вопрос сводился к тому, по какому мосту интереснее идти. Я подумал, что если я пойду по Москворецкому, то Кремль будет как бы выплывать на меня... Да, это похоже на то, как будто на вас выплывает гигантский белый лебедь, чья шея - колокольня Ивана Великого, а спина - соборы с золотыми перьями куполов. Я уже готов был выбрать Москворецкий мост, как вдруг мне представилось чрезвычайно заманчивым увидеть этого лебедя уплывающим вдаль из таинственного полумрака сада - картина, которая открывается перед нами, когда мы идем по Каменному мосту. Не свернуть ли в ту сторону, налево?
Солдат, который подошел ко мне, вероятно, потому и подошел, что у меня был вид человека, хорошо знакомого с местностью: в самом деле, человек стоит на углу среди торопящих-ся прохожих и спокойно поглядывает то в одну, то в другую сторону. Был ли это солдат? На нем не было погон, пилотка была без звездочки, - но то, на чем не было погон, все же было гимнастеркой, а пилотка
все же была пилоткой - хорошо пригнанной к его голове, старой, выгоревшей, видавшей виды пилоткой.
Если даже теперь он и занимался каким-нибудь другим делом, то все же это был солдат, и никакого другого имени нельзя было подобрать к его лицу, фигуре, походке, развороту груди, на которой голубизной и желтизной полевых цветов светились ленточки воинских наград.
Когда он приближался ко мне, я с волнением ожидал его вопроса. Что меня спросит солдат?
Только что я думал о том, как красив Кремль, и это размышление о прекрасном выключило меня из повседневности. Да, мне показалось, что нас только двое на перекрестке - солдат и прохожий. Какого ж вопроса я мог ожидать? Только такого, который можно услышать на дорогах войны. Вот я и ожидал, что прозвучат какие-то суровые слова, имеющие отношение к трудностям жизни.
- Скажите, пожалуйста, где здесь Третьяковская галерея?
Вот что меня спросил солдат. И это включило меня в повседневность. Я понял, что передо мной обыкновенный советский человек, который был солдатом, а теперь трудится. У него свободный день, и он хочет посетить Третьяковскую галерею. Я указал ему на видневшуюся в глубине переулка кирпичную ограду. Он поблагодарил и направился в переулок.
Тут же группа детей, которая остановилась возле меня несколько раньше, сдвинулась с места и пошла вслед за солдатом. Как видно, они хотели задать мне тот же вопрос, что задал солдат. Теперь они знали, где Третьяковская галерея.
Но этого не знала старая женщина, подошедшая ко мне несколько позже. Я указал на кирпичную ограду также и этой женщине.
Простояв на перекрестке около часу, я понял, что это удивительный перекресток.
Не удивительно то, что на углу переулка, в котором расположена картинная галерея, спрашивают об этой галерее, а удивительно то, что вас спрашивают почти все, кто приближается к переулку. Целый отряд советского народа идет в "Третьяковку" - и, очевидно, в любой день. Все же я чувствовал себя выключенным из повседневности, когда стоял на этом углу? Или это была очень необыкновенная повседневность...
Да, это именно так: это была необыкновенная повседневность, наша советская повседневность с золотым Кремлем, с людьми войны и труда, с прекрасным искусством и с дымами строительства - голубыми, румяными и радужными.
Эти дымы стояли над чертой реки, когда я покидал удивительный перекресток.
Сейчас, идя по мосту или пересекая сквер, редко когда не станешь свидетелем сцены фотографирования каким-либо любителем группы его друзей.
Группа поставлена так, чтобы фоном ее был Кремль.
Фотографирующий стоит почти на мостовой.
Да, просто - на мостовой!
Иногда оказывается даже на ее середине. Милиционер делает вид, что не видит. Проносящиеся машины берут чуть по диагонали.
Никак она не находится, эта выгодная точка!
Группа терпеливо ждет. Тем более что можно смотреть просто вдаль... Смотрят вдаль, а там синяя улица реки, и другой мост, и третий, и высотное здание, и над всем белая чайка, летящая сюда, к мосту...
- Снимаю! - кричит фотографирующий. Однако в ту же секунду глаза почти всей группы вскидываются кверху, встречая мощно вступившую в пространство над мостом роскошную птицу, и снимать, конечно, нельзя.
- А! - Фотографирующий в досаде даже хватается за козырек кепки. - Да ну вас!
А сам восхищенно смотрит вслед чайке, уже перелетевшей мост, уже бросившей тень на реку, уже делающей ослепительный вираж над молодыми деревьями набережной... Безусловно, как только будут сняты друзья, начнется охота за чайкой - бескровная охота художника!
Как радует то обстоятельство, что появляется все больше и больше фотографов-любителей. С аппаратом на груди, или на боку, или в руках вы можете сейчас увидеть и подростка, и солидного рабочего, и полковника... Пожалуй, даже в воскресенье почти все идущие тебе навстречу поблескивают на тебя черным и блестящим, как жук, глазом объектива.
Почему это обстоятельство радует? Потому что оно говорит о том, что все большее количество советских людей приобщается к миру красоты, науки - к художеству, к точным знаниям. Человек, занимающийся фотографией, - и оптик, и геометр, и художник.
Но ни один из фотолюбителей, снимая, вероятно, не думает о том, какой богатый материал для истории представят его снимки через много, много лет. В них, этих снимках, будущий историк увидит, как изменилось лицо великой страны социализма.
Пусть же фотолюбители работают много, стараясь работать хорошо, разнообразно, запечатлевая людей, их быт, их труд, их путь к светлому будущему среди событий, среди природы, среди их великой истории.
Выпало много снегу, он еще идет, земля, деревья, строения - на всем снег... И небо в снегу, так как он становится видим на довольно большой высоте.
Словом, происходит то, чего я не умею описать. Что это - серебро? Мельхиор? Лес похож на собрание дорогой посуды? Не знаю!
Сейчас в городах снег убирают. В Москве появляются грузовики с какими-то техническими добавлениями, и снег поглощается некоей железной пастью.
Я помню время, когда в Москве снег укладывали в сугробы на краях тротуаров, и в них отражалось солнце. Тогда на нем зажигались искры - пунцовые, зеленые, желтые. Ночью их обливал лунный свет. Ездили в санях. Сани были очень маленькие, узкие, шаткие; кучер казался огромным, лошадь - величиной с тех лошадей, что на памятниках. Сидя в санях с женщиной, вы зацеплялись ее волосами, они были и на вашей щеке. Все вместе неслось со стремительной быстротой, казалось, вот-вот опрокинется. Однако вы касались рукой бархата полости, закрывавшей ваши ноги, и женщина была так близко к вам, как будто постоянно находилась в ваших объятиях...
Всегда забываешь, что в конце ноября именно морозы. Почему-то относишь их к более поздней зиме. Нет, именно в ноябре. К морозу, кстати говоря, можно отнестись с меньшим страхом, если подумать о нем не с точки зрения литературы о зиме, живописи, не с точки зрения также и житейского отношения к холоду, а представив себе мороз как химическое явление. Представив себе, что все эти сугробы, заиндевевшие пальто, все эти листья на окнах, красные носы, замерзшая река, - есть не что иное, как результат именно научного обстоятельства, и что все это происходит в колбе. Впрочем, это рассуждение согретого нормальной домашней жизнью человека, человека в пальто.
Необычайно красиво выглядит на морозе это ярко-желтое пламя, которое вырывается из каких-то шлангов, участвующих в ремонте подземных труб. Оно не вырывается даже - оно вылетает; нет, нужно сказать еще точнее: быстро льется по воздуху? Бежит быстрой волной? Яркое почти до звона, желтое пламя - вдруг видишь его отдельные куски, как будто появляется на мгновение солома... Завитки пламени исчезают мгновенно - но все же они существуют мгновение - и от этого действительно мгновенного существования получается впечатление чуда, ангельского меча. Человек в громадной, почти до пояса, железной каске заведует этим пламенем - это почти щит, эта маска с маленькими злыми глазками. За ней, правда, доброе, усталое, как бы сплетенное из веревок лицо мастера.
С моей эспланады виден купол неба в алмазном блеске зимы. Серп луны, чуть пониже - звезда. Какая? Где-то я писал о морозе, неподвижном, как стены. Это хорошо сказано. Ужасно пессимистические отрывки, в которых указанное описание. Неужели, старея, становишься более спокойным? Кто заботится об этом?
С эспланады видна Москва, окружающая меня, стоящего как бы посередине, на вершине пика. Сейчас, зимним вечером, это ряды огней - один за другим, вдаль. Иногда расплывающееся пятно неона.
Очень теплый декабрь - на нуле. Я, вообще говоря, люблю тот период года, когда дни уменьшаются. Вид города, уже проснувшегося, но в темноте и огнях, - очарователен. На часах - девятый час, но за окнами ночь, хотя уже и встрепенувшаяся - с маленькими светящимися абажурами в далеких окнах... Чувствуешь себя в эти ночные утра моложе, бодрее, деловитей.
Под падающим и задерживающимся на земле снегом скрыта черная скользота. Люди грохаются всей силой тяжести прямо на легкие. Вдруг представишь себе в сгустке пальто, валенок, платка этот алый пульсирующий куст - и делается страшно.
В переулке парень с гитарой в руке догоняет ушедших вперед нескольких парней. Бежит, размахивая гитарой, которая почти оранжевого цвета, и ярко видна поэтому среди снега. За парнем сперва бежит, потом идет девочка - с двумя связанными на спине косичками и в маленьких лыжных штанах.
- Ты куда, Виктор? Куда?
- В гости! - кричит парень, не оглядываясь. - В гости!
Очевидно, сестра. А может, просто кто из дворовых девочек, которых не может не восхищать этот умеющий играть на гитаре и балагурить парень.
Когда я впервые увидел часы? Не помню. Не подлежит же сомнению, что был момент, когда я обратил внимание на этот странный движущийся предмет. Не помню этого момента.
Помню, однако, как меня учили определять по часам время. Большая стрелка казалась более дружелюбной; та, маленькая, не заигрывала со мной, ушедшая в себя, упорная и знающая свое дело.
Часы, пожалуй, менее других предметов техники, видоизменялись за время их существования в моей жизни. В то время, как, скажем, резко изменился телефонный аппарат, из большого ящика на стене превратившийся почти в трубку, которую даже можно переносить с места на место, часы остались примерна такими же, какими они были и триста лет тому назад.
Может быть, потому, что часы, кроме значения в обиходе, имеют значение еще как предмет роскоши, драгоценности, подарок. Они не изменились, скажем, подобно тому, как не изменились браслеты, ожерелья. Может быть, им и не надо меняться. Сразу была найдена удобная форма: тикание времени сразу же научились сосредоточивать рядом с собой, тут же, на груди, на руке.
Впрочем, появление ручных часов было революцией.
Я никогда не имел часов, не покупал их, и никогда мне их не дарили. Я иногда говорю красивые слова о том, что мои часы на башнях.
Правда, какое чудо эти башенные часы! Посмотрите на часы Спасской башни. Кажется, что кто-то плывет в лодке, взмахивая золотыми веслами.
Одним из могущественных предметов для метафоризации именно были башенные часы. Они, входя в описание, уже сразу придают ему поэзию, придают ему даль, высоту, панораму. Можно говорить и о башне, и о птицах вокруг нее, и про облака, подальше от нее, и о деревьях и крышах внизу. Сколько метафор о времени приходит в голову, когда смотришь на такой циферблат над городом. Можно сказать, что это ты сам сидишь в лодке и размахиваешь золотыми веслами жизни.
Разумеется, Эдгара По привлекали башенные часы. Он описал маленький городок, где бюргеры ежедневно, когда приближался полдень, вынимали из жилетных карманов свои маленькие часы, чтобы сверить их с теми большими на ратуше.
Прямо-таки неисчислимое количество раз в течение дня подходят ко мне на улицах люди и спрашивают:
- Скажите, как мне на улицу Горького? Или:
- Будьте ласковы, вот нам в парк культуры... Или:
- На нем мы до парка культуры доедем?
Это о речном трамвае, который они видят с Каменного моста. Остановились у парапета и смотрят как очарованные.
Я поехал бриться на один из трех вокзалов: кажется, попал на Северный.
Ждал в очереди, поглядывая в зеркало. Я был тогда объемистым, с широкими плечами, темноволосым, с бледным, но сильным лицом.
Почему я должен был обязательно побриться (даже понесся на вокзал, не найдя в городе, по случаю воскресенья, открытых парикмахерских)?
Не помню. Помню, что ехал в трамвае, стоял на задней площадке. И там поглядывал на отражение в стеклах. Темноволосый, с мрачным, но молодым взглядом.
"Блям, блям, блям! - стучал вагоновожатый своей педалью. - Блям, блям!"
Трамвай катился вниз, как кажется мне, по Покровке. Нет? По Покровке!
Блям, блям, блям!
Вот показывается башня Казанского. Тогда высотных в этом месте не было. Башня Казанского. Мост, по которому бежит поезд, как бы поставив над собой дым в виде быстро бегущего к небу столба. Наконец - площадь...
Приехали! Потом зеркало, и я встречаюсь с собой взглядом и хмурю брови, потому что сам себе нравлюсь.
По новому стилю это что же - благовещение?
В этом дне всегда было что-то прелестное, какое-то соединение весны и молодости.
Не приходится сомневаться, что я стар.
Нет, благовещение, пожалуй, двадцать пятого марта. Во всяком случае, у Всех скорбящих не звонят.
Пасхальный стол украшался гиацинтами - на длинных стеблях и подпорках. Гиацинты были розовые и лиловатые, с цветами похожими на лодки, - целая кавалькада лодок, спускающаяся сверху вниз к вазону. Целая кавалькада розовых или лиловатых лодок, спускающихся по спирали вниз - огибая по спирали стебель... Так? Не так?
Я купил на рынке букет душистого горошка и с этой удивительной ношей на руках шел через центральные улицы города.
Так как букет, как я уже сказал, был куплен на рынке, то он не был как-либо специально завернут - просто на руках у меня лежали, полурассыпавшись, ветки, покрытые цветами, кривые, образующие несколько углов ветки и танцующие на них цветы. Верно, когда я не боковым, а, так сказать, нижним зрением иногда смотрел на букет, то мне казалось, что я вижу хоровод девочек в развевающихся синих, красных, бледно-голубых, белых и почти что в горошинку юбках.
- Смотрите-ка, ваш букет ему так понравился, что... Вовка! Ну что вы скажете!
Погруженный в свои мысли, я не заметил, что мальчик, ждавший, пока мама купит ему мороженое, вдруг увидел человека с букетом, потянулся за букетом.
Увидевшие сцену смеялись.
Даже забыл мороженое! - сказал один.
Убегая от ливня, я перескочил через первый попавшийся порог. Сейчас выяснится, что я вбежал в кафе, а пока что я стою, имея перед собой какие-то два окна, и отряхиваюсь. Ливень ходит столбами за окнами, прямо-таки столбами! Похоже на орган.
О том, что убит Киров, я узнал утром в Одессе, в Лондонской гостинице. Это было двадцать лет тому назад. Понимаю ли я смысл этой фразы? Нет, не понимаю. Двадцать лет - это сердцевина жизни, фактически сама жизнь... Так ли это? Никитенко в дневнике пишет, что это треть жизни. Смотря какая треть... Это средняя треть, самая вкусная. Так ли это? Самая ли вкусная?
Кстати говоря, производя все эти рассуждения, я забываю, что сейчас я живу в третьей (по Никитенко) трети своей жизни.
Нет, все же я ничего не понимаю! Очевидно, время есть величина непостоянная. Очевидно, она движется то ускоряясь, то более медленно. Иногда, по всей вероятности, двадцать лет протекает скорей, чем один день. Во всяком случае, я заметил с совершенной отчетливостью, что ранние утренние часы движутся скорее, чем наступающие после одиннадцати - двенадцати часов. Я однажды сел за стол в шесть часов и, встав на мой взгляд через час, увидел, что на часах уже двенадцать. То есть я просидел за столом шесть часов, совершенно этого не почувствовав. А в течение шести часов не утренних, а наступающих во второй половине дня и обедают, и отдыхают, и одеваются к приходу гостей, и ждут гостей...
Как бы там ни было, прошло двадцать лет. Это было вчера!
Сегодня (27 апреля 1954 года) хоронили Лидию Сейфулли-ну. В гробу она, кукольно-маленькая при жизни, лежала так глубоко, что я хоть и затратил усилия, но никак не мог увидеть ее лица. Она вся была покрыта цветами, как будто упала в грядку. Совсем маленький гроб, который несли среди других Лидии, Ступникер, Арий Давыдович. Вставили в автобус сзади, как это всегда делается. В небе проглянула синева...
Сейфуллину я видел с месяц назад в том же месте, чуть дальше, во дворе Союза писателей. Она шла навстречу мне быстрым шагом не только не мертвой, не только не больной - но даже молодой женщины. При ее миниатюрности обычно даже я, глядя на нее, посылал взгляд сверху. Так же. сверху послал я его и при этой встрече - и встретил блеснувший серпом взгляд, полный молодых чувств дружбы, юмора... Именно так - она показалась мне молодой!
Да будет благословенным ее успокоение! Мне кажется, что она любила меня как писателя, понимала. В последние годы я не встречался с ней на жизненном пути. Почему-то иногда думал я о ней как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями. Нет, эта встреча во дворе Союза сказала мне, что я ошибаюсь: она явилась мне никак не погибшей - наоборот, как сказал я, молодой! Как синева сегодня, проглянула мне молодость души сквозь старую, порванную куклу тела. Так и ушла она для меня навсегда - весело сверкнув на меня серпом молодого взгляда, как бы резавшим в эту минуту все дурное, что иногда вырастает между людьми.
Надо помнить, что смерть это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развилось как раз такое отношение к смерти: она - наказание.
А может быть, так оно и есть? Тогда за что? Тогда и рождение - наказание со своим еще более трудно объяснимым "за что?".
Целый ряд встреч. Первая, едва выйдя из дверей, - Пастернак. Тоже вышел - из своих. В руках галоши. Надевает их, выйдя за порог, а не дома. Почему? Для чистоты?
В летнем пальто - я бы сказал: узко, по-летнему одетый. Две-три реплики, и он вдруг целует меня. Я его спрашиваю, как писать - поскольку собираюсь писать о Маяковском. Как? Не боясь, не правя? Он искренне смутился - как это вам советовать! Прелестный. Говоря о чем-то, сказал:
- Я с вами говорю, как с братом.
Потом Билль-Белоцерковский с неожиданно тонким замечанием в связи с тем, что у Мольера длинные монологи и странно, что актеры "Комеди Франсэз", которых он видел вчера по телевизору, не разбивают их между несколькими действующими лицами. Долгий монолог его самого по поводу того, ложиться ему на операцию или не ложиться.
Потом Всеволод Иванов. (Это все происходит перед воротами дома.) Молодой. Я думал, что он в настоящее время старше. Нет, молодой, в шляпе. Сказал, что написал пьесу в стихах. Как называется, почему-то не сказал.
Встретил Мартинсона. Сказал, что только что говорили обо мне. Где? На радио. Оказывается, он играет в инсценировке "Трех Толстяков". Это меня очень обрадовало. Инсценировку делал не я и качества ее не знаю. Играют, оказывается, Яншин, Бабанова. Очень радостно! Я бы сам и не стал делать, не хочется возиться со старым - но приятно, что опять встречаешься с замечательными артистами, которые тебя помнят.
И тут же, посередине Горького в "ЗИМе", как в огромной лакированной комнате, прокатил Катаев... Я склонен забыть свою злобу против него. Кажется, он пишет сейчас лучше всех - тот самый Катаев, к которому однажды гимназистом я принес свои стихи в весенний ясный-ясный, с полумесяцем сбоку, вечер. Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики... Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной, пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом - печальная, без быта, квартира, где не заведует женщина. Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликового поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно.
Ветреный день. Стою под деревом. Налетает порыв. Дерево шумит. Мускулистый ветер. Ветер, как гимнаст, работает в листве.
Сегодня в "Известиях" есть два места очень приятных для воображения. Оказывается, в счетных радиоэлектронных машинах имеются так называемые "запоминающие трубки". Это уже довольно далеко на пути к роботу!
Второе: в арфе та толстая массивная часть из дерева, та часть рамы, которую артист держит прижатой к груди, которую как бы обнимает, называется колонной. В "Известиях" описано, как старый мастер на фабрике музыкальных инструментов, занимающийся этим шестьдесят лет, пишет на колонне арфы золотой краской лепесток. Пожалуй, еще не так близко до робота!
...Подумать только, среди какого мира живешь и кто ты сам! А я ведь думал, что самое важное - это не ставить локти на стол!
Год - очень короткая единица, очень короткая - взмах ресниц. На этом основании мне кажется, например, несколько преувеличенным тот ужас, который мы вселяем себе, говоря о звездных пространствах, световых годах н т. п. Если год так короток, то нужно ли так ужасаться расстоянию в несколько миллионов световых лет! Все же зерно этих чудовищных измерений - год, земной, человеческий год, взмах ресниц. Несколько миллионов взмахов ресниц - это хоть в возможностях, скажем, великана, но все же человека. Может быть, это все и не так далеко, в конце концов!
В одной статье о междупланетных путешествиях -- печальное и возвышенное рассуждение о том, что поскольку человеческой жизни далеко не будет хватать при самых больших скоростях на то, чтобы достигнуть Даже и не слишком отдаленных звезд, то придется направляться в путь, так сказать, поколениями - один долетит до Луны, скажем; там осядет, произведет поколение; кто-то из этих, родившихся на Луне, полетит выше, будут рождаться поколения для путешествий и на промежуточных между планетами и звездами специально построенных станциях... Так все выше и дальше во вселенную будет распространяться человеческий род, уже в очень давних поколениях потерявший связь с Землей. Это очень торжественно, красиво и безысходно!
Так, в этом году съели вишни и черешни без меня. Я даже не видел, как в этом году продавали их на Центральном рынке - рыжие, голубоглазые грузины с розовыми щеками и украинские женщины без особенных украшений, но с говором мягким и певучим.
До того, как я познакомился с Алексеем Диким коротко, я знал, что есть такой известный режиссер Дикий. И видел его также в качестве артиста. Помню пьесу какого-то скендинавс-кого драматурга, которая называлась "Гибель надежды" и в которой главным действующим лицом был некий моряк - мощный, переживающий трагедию человек, рыжий, веснушчатый, громогласный... Он вдруг вошел в дверь в клеенчатом черном плаще с капюшоном, который блестел от дождя, от бури, от кораблекрушения, и. заполнив весь пролет двери от косяка до косяка, ламентировал о чем-то - прекрасно, яростно, потрясая зрителей, вызывая у них сочувствие почти до слез.
Это был Алексей Дикий.
Когда я с ним познакомился коротко, я чувствовал, что это человек, считающийся только со своей душой, человек, живущий по собственным законам. Эти законы совпадали с законами истинной человечности, истинного понимания добра и зла.
Он был дьявольски талантлив.
Юмор, вкус.
И доброта.
Доброта, чувство товарищества. Некоторые проявления им его душевных качеств доходили до античного характера. Великолепный мужчина, красавец, остроумный, тонко-тонко понимающий корни жизни.
Нет для меня счастливей минут, чем те, которые переживаю я, когда в воскресенье утром вхожу в кондитерскую покупать торт.
Я избрал маленькую кондитерскую для этого, каждую неделю повторяющегося обряда. В больших слишком много покупателей, да и уж очень хорош переулок, в котором помещается именно эта кондитерская: немноголюдный, с несколькими синеватыми плитами гранита в тротуаре, с чудесной оградой перед одним из домов, узор которой как некий почерк знаменитого, давно жившего деятеля - и, главное, переулок этот связан для меня с удивительным переживанием, которое иногда посещает меня и которое я называю "миром без меня"... Да разрешит мне читатель описать это переживание позже - оно сложно, - а сейчас я буду рассказывать, как я покупал торт.
Продавщицы меня уже знают. Со всех сторон кивают мне завитые блестящие головки. Похоже на то, когда входишь в теплицу: вдруг сквозь просвет в зеленых зарослях видишь покачивающуюся голову змеи или удивительного цветка... Так и здесь - только заросли заменены коробками, вазами. Та же душная, чуть ядовитая, греховная атмосфера.
Я кланяюсь направо и налево. Я тоже знаю их: вот Зина, вот Нюра, вот Лиза. Самая хорошенькая, пожалуй, Лиза. Впрочем, дело вкуса, да и, по правде говоря, все прелестны.
Как и всегда, я возьму земляничный торт.
- Этот или этот? Этот чуть больше.
- Давайте этот.
Маленькая ручка, повиснув всеми пальчиками по направлению к торту, плывет среди конфетных масс. Взяла торт при помощи другой таким же способом приплывшей ручки - и вот он передо мной, этот кажущийся мне участником волшебных сказок и другом фей земляничный торт!
Всегда бывает в январе несколько дней, похожих на весну - собственно не то, чтобы похожих на весну, а таких дней, которые вдруг приводят тебе на память облик весны.
- Весна, - вдруг говоришь себе, - ах, вот она какая, весна!
Конечно, это не весна. Еще и намека нет на нее. Мороз, твердый снег, но закат странно желт; приоткрывается завеса дали - а ведь зимой дали нет! А тут даль... Лимонно-желтая - и что-то странное происходит с птицами - как будто они что-то увидели.
Вчера вечером телеграмма из "Мультфильма" о том, чтобы прийти получить деньги по договору на "Три Толстяка"; сегодня письмо от образцовского театра с предложением подумать о постановке "Трех Толстяков" в их театре. Подумать, сколько лет они стоят, так сказать, в повестке дня нашего искусства. Я писал их совсем юным - то в маленькой комнате при типографии " Гудка", где жил с таким же юным Ильфом, то у Катаева в узкой комнате на Мылышковом, то в "Гудке" в промежутках между фельетонами. В комнате при типографии, которая была крохотная, - один пол! - я и писал лежа на полу... Я писал пользуясь типографским рулоном - несколько правда отощавшим, но все же целым бочонком бумаги. Он накатывался на меня, я придерживал его рукой... Другой рукой писал. Это было весело, и тем, что мне весело, я делился с веселым Ильфом. Однажды Ильф разбудил меня среди ночи стонами. Он жаловался на очень сильные, необычные боли в животе. Стало понятно, что нужно раздобыть доктора. Где его раздобыть? Была ночь, молодость, неумелость. Я решил, что выйду на улицу и пойду, ища врача по вывескам. Я вышел. Никитская, Никитские ворота. Вот темный, похожий на уходящий вдаль поезд, - Тверской бульвар... Впрочем, не темно, нет! Август, ночь августа, еще полной грудью вздыхают деревья - все прекрасно вокруг, прекрасно! Тук-тук, тук-тук - это я иду по бульвару... Тук-тук... Разом подняв с десяток ветвей, указывает мне путь дерево, все говорит мне о том, что я молод, здоров. Тук-тук, тук-тук... никто не встречается! Я один на свете! Я! Тук-тук! Тук-тук... Врач! Вывеска - врач! Я - раз-два - на крыльцо; раз - звоню. И только об одном я думаю - не о том, что больной ждет помощи, а о том, что сейчас я буду шутить...
Сперва я стоял в небольшой очереди с несколькими мужчинами и женщинами, среди которых были и молодые и пожилые - одна, между прочим, хорошенькая, с надутым лицом, в котиковом саке; я подумал о ней, что поскольку очередь военнообязанных, то это, по всей вероятности, медицинская сестра...
Мы упирались в окошечко, проделанное в простенке; что было в окошке, мне не было видно. Я смотрел, главным образом, на надутое лицо молодой женщины, выхоленное, привыкшее к любованию. В стороне от окошечка стояла пальма с листьями, как бы вырезанными из железа и похожими на части жатвенной машины.
Очередь дошла до меня. В окошечке, оказалось, сидит молодой с бледным лицом офицер. Я положил на подоконничек, обращенный в его сторону, повестку и воинский билет. Раскрыв эту мою книжечку и полистав, зажимая между пальцами отдельные ее листы, он вскинул на меня очень учтивый взгляд и сказал, что просит меня подождать, пока он снимет меня с учета.
Я отошел под пальму. За мной проделала свои дела понравившаяся мне воображаемая сестра милосердия - и ушла - я не заметил, когда это случилось, поймав только движение закрывающейся за ней створки выходных дверей. Мгновение мне казалось, что еще качается перед моими глазами колокол ее котикового пальто...
- Товарищ Олеша, - услышал я обращение идущего ко мне из-за кулис человека. Это был офицер из окошечка. Учтиво, но теперь еще и улыбаясь, он говорил со мной не больше минуты, одновременно протягивая мой воинский билет, - говорил о том, что я снят с учета и - для справки, сказал он, - должен знать, что теперь я не военнообязанный.
Так окончились мои отношения с Красной Армией, зарождение которой я видел собственными глазами.
Плохая весна. Серо, без дуновения.
Умер (позавчера, 18-го) Альберт Эйнштейн. Я думал, высокий, вроде нашего Иоффе. Нет, оказывается, маленький, волосатый. Никто из нас, нормально-культурных людей, не знает, что, собственно, сделал Эйнштейн.
Когда я входил в силу молодости и призвания, как раз в центре внимания была теория относительности. Показывали даже маленький фильм (советский), который, предполагалось, объяснит эту теорию популярно. Он ничего не объяснил - во всяком случае мне. Я запомнил только кадр с медленно поворачивающимся земным шаром.
Эйнштейн предупредил, что нельзя шутить с расщеплением материи.
Вчера рассказывали, что после пробных взрывов остаются отходы, в которых сохраняются опасные свойства распада. Что с ними делать? Американцы бросали их в океан - тоже опасно. Теперь применяются какие-то бетонные мешки, куда эти отходы прячутся. Но и сквозь эти мешки тоже летят излучения.
Сегодня в "Правде" памяти Эйнштейна некролог наших нескольких академиков.
Это не было ни в воскресенье, ни в какой-нибудь праздник. В том-то и дело, что это был будний, обыкновенный день - и не в преддверии каких-нибудь событий в истории или в атмосфере: весны, скажем, или приезда царя - нет, обыкновенный, рядовой день среди давно уже установившегося сезона.
И тем не менее на обед была подана индейка, и было также то сладкое, которое связано чуть ли не со сказками, - сладкое, которое даже опасно есть - не превратишься ли в карлика? Пломбир!
Так, именно сверхпраздничным обедом в обыкновенный день, предстало передо мной впервые богатство, предстал правящий класс.
- Юра, ты останешься обедать? Юра останется обедать!
Да, да, останется!
Мне тогда было лет десять, я еще не гимназист. Я еще просто мальчик в синих коротких штанах и черных длинных чулках. Просто мальчик.
- Мальчик! - кричат неизвестно кому, и я тоже оглядываюсь. Оглянусь ли теперь, когда закричат: "Старик!"
Пожалуй, не оглянусь. Не хочется? Нет, я думаю, в основном тут удивление, что это наступило так быстро... Неужели наступило?
- Старик! Эй, старик!
Нет, это не я, не может быть.
Старик! Нет, не оглянусь. Не может быть, чтобы это произошло так быстро.
- Старик! Вот дурак - не оглядывается! Ведь это же я -
смерть.
В Малом театре комфортабельно, чисто, гордо, роскошно. Женщина, отнимающая у выхода ваш пропуск, встает перед вами. Как видно, это накрепко приказано ей: когда проверяешь пропуск, вставай. В самом деле, приходят писатели, артисты из других театров, приходят высокопоставленные военные и штатские...
Сидишь за круглым столом, где напротив сидят Марков, Межинский. Межинский читает пьесу.
...Может быть, попробовать устроиться в Малый театр актером? Игра курьеров. А что же, помогли бы устроиться. Получал бы спокойно жалованье. Надевал бы парик, от которого пахнет клеем. Когда-то я загримировался стариком, и юная женщина, которая меня любила (юного же!), ужаснулась:
- Боже, какой ты страшный!
Теперь я постоянно в этом гриме. Впрочем, Суворов стар - урод ли? Весь в голубом, в звездах орденов, с двумя белоснежными вихрами...
Я знаю два определения неизменности вселенной - художественных, доступных любому воображению: одно принадлежит Паскалю, другое - Эдгару По.
Паскаль сказал, что вселенная - это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как это гениально! Стало быть, все вместе - Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами - сливаются в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще, и еще, мы не видим - и все это сливается в одну вырастающую бесконечно точку для вырастающего бесконечно циркуля... И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому, что точка все растет и сам он растет - и окружность, таким образом, не описывается! Ее нет!
Эдгар По предлагает для представления о беспредельности вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность вселенной - подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность.
- Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой, - говорит Эдгар По, - будет лететь по прямой вечно!
Великий математик, видим мы, был поэтом; великий поэт - математиком!
Маяковский говорит:
...ночи августа
Знездой набиты нагусто!
Как раз осенью небо не набито звездами. Рифма, как всегда, конечно, великолепная (неологизма - "нагусто" - мы даже не замечаем - так закономерен этот неологизм)! Только ради нее и набито небо звездами. Возможно, впрочем, что я дурак и педант - ведь ночь-то описывается тропическая, для глаза европейца всегда набитая звездами!
Когда он вернулся (он побывал и в Мексике) из Америки, я как раз и спросил его о тех звездах.
Он сперва не понял, потом, поняв, сказал, что не видел. Пожалуй, я в чем-то путаю здесь, что-то забываю. Не может быть, чтобы он головою над всеми - не увидел Южного Креста!
О, пусть он, этот крест, даже и снобизм, но не мог же он не заметить, что созвездия нарисованы поиному, что звезды горят иные!
Все это в конце концов бессмысленное ожидание пропуска или паспорта в страну, которая существует не в пространстве, а во времени - в прошлое, в молодость. Такого паспорта получить нельзя, и ожидание, повторяю, бессмысленно, однако обходится в живые куски жизни, которые отбрасываешь, как отбрасывал перёд какой-либо обычной поездкой в пространстве. А, ничего, мол, ляжем сегодня пораньше спать, ведь завтра все равно едем!
Ведь мы же сейчас никуда не поедем! Что же отбрасывать жизнь?
А вот поди ж, трудно отказаться от того, чтобы именно ожидать, трудно поверить, что страна, куда хочется отправиться, уже переключена из пространства во время.
Пятьдесят лет Шолохову.
Я однажды долго разговаривал с молодым человеком в кепке со смеющимися глазами где-то на лестнице "Националя", не зная, кто этот молодой человек. Только потом сообразил, что это Шолохов. Очевидно, скромный, вежливый. Он отозвался о моих критических отрывках с похвалой - причем в интервью, так что во всеуслышание.
Сегодня наконец-то впервые в жизни я увидел комету. В 1910 году, когда к Земле приблизилась комета Галлея, мне было десять лет, и меня в день, вернее в вечер, наиболее тревожного ожидания какой-то предполагавшейся катастрофы в связи с этим приближением, мама и папа привезли вместе с моей тоже еще далеко не взрослой сестрой на Николаевский бульвар в Одессе, и там, где уже собралось много народу, я старался увидеть комету, которую потом вспоминали Горький и Блок. Я ничего не увидел, кроме обычного наполненного звездами купола летнего неба. Помню оживленные голоса собравшихся на бульваре людей, помню сладкий запах вина, исходивший из уст мамы, которая перед тем была вместе с папой и еще целой компанией в ресторане - но не помню, чтобы я видел комету... Возможно, что, как все же ребенок, я не умел разобраться в том, что сияло в куполе. Как бы там ни было, кометы Галлея я не видел.
Это первая комета, которую я увидел в своей жизни, та, на которую я смотрел час тому назад из сада Дома творчества в Переделкино, под Москвой, и потом с балкона этого дома. Над вершинами сосен в вечернем - вернее в ночном темном, но чистом небе, между двумя безымянными для меня обыкновенными звездами, виднелось нечто вроде гигантского капсюля, обращенного утолщенной частью вниз, бледно светящегося - настолько бледно, что свет этот моментами, казалось, вовсе исчезал. Зная предварительно, что комета состоит из ядра и хвоста, можно было и здесь увидеть ядро и хвост. Впрочем, они действительно были видны - и ядро и хвост. Но ожидаешь, что комета окажется очень яркой, как на цветных вставках в энциклопедических словарях, в данном случае ее свечение оказалось почти призрачным.
Я старожил, и я не помню такого жаркого сентября. Идешь по Пятницкой с такими ощущениями, как будто, приехав в Одессу, впервые спускаешься к морю. Даже пахнет смолой.
Это, наверно, атомная жара.
Беседа, которую хочется вести, должна быть тонкой, на полутонах, на полусловах. Скульптор Абрам Малахин симпатичен, умен, тонок и любит меня.
Он как-то показывал мне фото проекта памятника Ермоловой работы скульптора, которого он считает своим учителем -
Матвеева. Великолепное фото, на котором черная ниша, из ниши этой, выходит женщина в длинном платье. Таинственно, эпично, как в "Божественной комедии".
В связи с тем, что вечером объявили по радио о прохождении искусственного спутника над Москвой завтра утром в шестом часу, я лег, не раздеваясь и заказав себе проснуться в четыре часа. Я проснулся в пять. Сперва даже трудно было представить себе, как это можно сейчас встать и выйти на улицу. Однако встал и вскоре был на улице. Я решил пойти к Каменному мосту и ожидать появления спутника на нем, поскольку над мостом много неба, только внизу отороченного зданиями. Небо было еще ночное, хоть и лунное, с длинными полотенцеобразными, но прозрачными облаками. На юге быстро и стрельчато мерцала какая-то крупная звезда, которую, к стыду своему, я не мог узнать. Были рассыпаны и по всему небу редкие звезды, то потухавшие за полосами облаков, то опять свежо и уверенно появлявшиеся из-за них. Я смотрел на северо-запад, где, согласно сообщению, должен был взойти спутник - на северо-запад, имея ориентиром высотное здание на Смоленской площади. Я слишком в виде одной точки понимал сторону света, северо-запад, упустив из виду, что это четверть купола. Когда я не сделал и сотни шагов, я увидел идущих навстречу мне нескольких мужчин, оживленно разговаривавших, и понял, что я опоздал, - эти люди, ясно было, уже видели спутник. Так и оказалось.
-Опоздали, - сказал один из них.
Пока я смотрел на северо-запад, как в точку, просто держал в поле зрения высотный дом на Смоленской, спутник, взошедший на более широко понимаемом северо-западе, то есть в одной из точек целой четверти небосвода, двигался над моим правым плечом, чуть дальше его еще вправо.
- Какой он? - спросил я. - Вот как эта звезда?
- Да, - ответил один из мужчин.
Значит, он довольно большой на вид. Все-таки непонятно, как может быть видим шар величиной в те, которые лежат на цоколях в садах, - на расстоянии в тысячу километров и быть еще ярким. Впрочем, тут не стоит браться что-нибудь понимать.
Почему именно случилось, что я родился не в те дни, когда была открыта Америка, а в дни, когда появился искусственный спутник!
Как все меняется! Как все меняется! Совсем другие сейчас голоса дикторов, чем, скажем, год-другой назад. Я помню еще диктора Про.
- Вел передачу Про.
Это был первый диктор радиопередачи. Помните:
- Вел передачу Про.
Он еще жив. Очень, очень старый человек - в бесформенной шапочке, с бесформенным румянцем. Все это от старости. Он увидел меня из окна какого-то транспорта и узнал. Мы раскланялись.
Не такой уж обычный, черт возьми, ветеран! Шутка ли, первый диктор.
Я помню, как некогда бежал по площади, чтобы не пропустить какого-либо слова, раздававшегося из черной точки репродуктора... Это были первые встречи с этим чудом. Мокрый снег летел на Советской площади, репродуктор был похож на только что прилетевшую и севшую на столб ворону, и "вел передачу Про".
Сегодня в "Правде" траурное извещение о смерти Федора Гладкова.
Я его видел с месяц тому назад. Он выглядел очень плохо, я подумал о смертельной болезни. Он сказал, что у него какой-то спазм в пищеводе - он не сказал, что в пищеводе, а как-то иначе - и что поэтому плохо проходит пища. Очевидно, это был рак пищевода, мысль о котором мне тогда и пришла в голову.
Он был приличный человек, не стяжатель, не хищник. "Цемент" написан несколько декадентски, однако это первая вещь о советском труде. Впоследствии он стал писать хорошо, твердо. Он был умен, ядовит, всегда интеллектуально раздражен.
Он был близок с Малышкиным, моим соседом; там, у Ма-лышкина, я часто видел его, и у меня от этих встреч остался веселый его облик.
Позже, при встречах в Лаврушинском, у нашего дома, он всегда был приветлив со мной, дружествен, и я чувствовал, что мы оба писатели-профессионалы.
Он, как мне кажется, любил меня. Когда-то очень давно, когда я, как говорится, вошел в литературу, причем вошел сенсационно, на каком то банкете он подошел ко мне - в конце концов, чтобы посмотреть на меня! - и сказал:
- Какой вы молодой!
Он был уже знаменитым автором "Цемента".
Я с серьезностью, уважением и грустью переживаю вашу смерть, Федор Васильевич!
Жаль молодости, как можно пожалеть, что не увидишь милых, красивых, веселых, хохочущих друзей - целой толпы мужчин и женщин, которые исчезли вместе с молодостью... Они еще живы, но никто из них уже не то, что был тогда, уже не блестят их волосы, глаза; уже не острят мужчины, не толпятся у телефона в маленьких салонах ресторанов, вызывая девушек. Может быть, ничего уже не хотят.
Одно из ощущений старения - это то ощущение, когда не чувствуешь в себе ростков будущего. Они всегда чувствовались; то один, то другой вырастали, начинали давать цвет, запах. Теперь их совсем нет. Во мне исчезло будущее!
Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру. Несмотря на то, что рядом умирают - многие, многие, и молодые, и мои сверстники- несмотря на то, что я стар, я ни на мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? Может быть, все это - и с жизнью и со смертями - существует в моем воображении? Может быть, я протяжен и бесконечен, может быть, я вселенная?
Я думаю сейчас о Льве Толстом. Он постоянно размышлял о смерти. Теперь вспомним, в чем выразилась для него смерть. Он заболел воспалением легких, и, когда на другой или на третий день ему стало плохо, он начал дышать громко, страшно, на весь дом. Это так называемое теперь чейн-стоксово дыхание, то есть симптом смерти при парализующемся центре дыхания, названный так по имени двух описавших его врачей - Чейнса и Стокса. При этом симптоме Лев Толстой умер. Сияла ли у него в сознании в эти моменты его встреча со смертью, была ли она то, о чем думал всю жизнь. Думается, что нет. Он просто был лишен какого бы то ни было сознания, просто не знал, что с ним происходит. А до этих мгновений он был еще живой, протягивавший руки к лекарствам. Ничего общего не было между его смертью и смертью Ивана Ильича с его "пропустите" вместо "простите", с этой очень земной, очень здоровой чепухой, которую придумал Лев Толстой, думавший много о смерти и представлявший ее иногда в виде какого-то света, забывая в конце концов, что свет в таком смысле - это понятие поэтическое, а не физиологическое, которое должно идти рядом со смертью. Два врача, Чейнс и Стокс, знали о смерти точные вещи, физиологические, что она не свет, а, скажем, прекращение деятельности центра дыхания, для умирающего, по всей вероятности, никак не уловимое. Я думаю о Льве Толстом в ночь на 20 декабря 1959 года.
Умер Александр Вертинский.
Я помню его первые выступления, когда он появился в одежде Пьеро - только не в белой, как полагается, а в черной, выходя из-за створки закрытого занавеса к рампе, освещавшей его лиловым светом. Он пел то, что называл "ариет-ками Пьеро" - маленькие не то песенки, не то романсы: вернее всего, это были стихотворения, положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это бывает в песенке или в романсе - "ариетки" Вертинского оставались все же стихотворениями на отдаленном фоне мелодии. Это было оригинально и производило чарующее впечатление. Вертинский пел тогда о городе - о том его образе, который интересовал богему: об изломанных отношениях между мужчиной и женщиной, о пороке, о преданности наркотикам... Он отдавал дань моде, отражал те настроения, которые влияли в ту эпоху даже на таких серьезных деятелей искусства, как Александр Блок, Алексей Толстой, Маяковский.
Безусловно, Вертинский уже тогда показал себя очень талантливым человеком. Успех у публики он имел огромный.
Затем Вертинский оказался в эмиграции - жил в Париже и в Шанхае, оставаясь артистом в прежнем своем жанре исполнителя стихотворений-песенок. Но теперь он пел о покинутой родине, о тоске по ней. Он принадлежал к тем эмигрантам, которые жили мечтой о возвращении, которых волновал образ изменившейся, ставшей другой и, как они понимали, более прекрасной родины. Младший по рангу, он все же стоял в ряду таких эмигрантов, как Рахманинов, тот же Алексей Толстой, позже Шаляпин и Иван Бунин.
Теперь темой Вертинского стало слово "домой"... Гастролируя в тогдашней буржуазной Румынии - может быть, в Ак-кермане, он смотрит на соседнюю, совсем близкую русскую землю, с грустью и любовью называет ее "горькой" и, захваченный тоской по родине, воспоминаниями о прошлой жизни в России, создает великолепные строки о двух ласточках, которые, как две гимназистки, провожают его на концерт.
Александр Вертинский вернулся на родину, стал советским артистом, стремясь к тому, чтобы соединить свой жанр с современными советскими темами. Успех и у советского зрителя он имел большой. Он стал работать в качестве артиста кино.
Я хочу вспомнить здесь, в этом некрологе ушедшему артисту и, безусловно, поэту, мнение о нем Владимира Маяковского, не оставшееся у меня в памяти в точности, но сводившееся к тому, что он, Маяковский, очень высоко ставит творчество Вертинского. Я не был близко знаком с Вертинским - все собирался познакомиться и сообщить ему мнение Маяковского - но так и не познакомился и не сообщил. Пусть это мнение станет известным теперь друзьям, товарищам по работе и поклонникам артиста. Похвала сурового судьи Маяковского не пустяк - она может идти первой строчкой в эпитафии любого деятеля искусства.
Вертинский, кажется мне, несмотря на свои, как говорится, срывы, был крупной фигурой русского искусства и, кроме того, неповторимой. Вечная ему память!
Меня поставили в почетный караул в головах по левую сторону. Лежавший в гробу уходил от меня вдаль всей длиннотой черного пиджака и черных штанов. Из лица я видел только желтый крючок носа, направленный туда же вдаль, в длину, и видимый мне сверху, так как мертвый лежал, а я над ним - вернее, над его началом, стоял.
В глазах у меня от напряженного и хочешь не хочешь, а многозначительного стояния было розово, и все силы моей души были направлены на ожидание конца моей смены караула. Что касается физического моего поведения, то, кроме стояния, я еще был занят тем, что поглядывал на крючок носа и черную длинноту тела. Еще я посматривал в конец зала на входящих. Кое-где на мертвом лежали цветы, например белая молодая роза со стрельчатыми, еще не вошедшими в возраст лепестками...
Так окончилось пребывание в моей жизни Вертинского, начавшееся очень давно и длившееся почти всю жизнь. Я его увидел впервые в Одессе, когда он был уже имеющим известность артистом, а я еще только едва окончил гимназию. Меня потрясло его выступление в виде Пьеро, только не в белом, а в черном балахоне в свете лиловато направленного снизу прожектора. Сперва между створок темного занавеса появилась рука, потом вышел сам Пьеро...
Я долго равнял свою жизнь по жизни Вертинского. Он казался мне образцом личности, действующей в искусстве, - поэт, странно поющий свои стихи, весь в словах и образах горькой любви, ни на кого не похожий, не бывалый, вызывающий зависть. Я познакомился с ним в редакции какого-то одесского журнальчика, куда он вошел, наклоняясь в дверях, очень высокий, в сером костюме, с круглой, кгзавшейся плешивой головой, какой-то не такой, каким, казалось, он должен был оказаться. Он познакомился со всеми, в том числе и со мной, но не увидел меня. С тех пор знакомство в течение всей жизни не стало короче. Я об этом жалею. Он был для меня явлением искусства, характер которого я не могу определить, но которое для меня милее других - искусства странного, фантастического.
Один писатель жаловался мне на то, что, дескать, в наши дни невозможно написать простой рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах, он так и сказал: "о звездах".
Он говорил:
- Техника! Только о технике и можно писать. Машины! Машины! Машины! А мне, может быть, хочется писать о звездах.
Я расстался с писателем вечером на бульваре. Над нами сверкало звездное небо. Он удалился. Я стоял, задрав голову. Там шевелилось звездное небо.
Я решил написать рассказ о любви, о нежности, о юноше и девушке, о звездах.
Попробуем.
Я никогда не был на бал-маскараде. Однако помню прият ное ощущение, которое переживала рука, когда брала маску. Я имею в виду черную женскую маску. Вернее, полумаску. Она была снаружи черная, внутри белая и гораздо была милее с той, с обратной стороны. Эти белые атласные вдавлины на месте носа и щек казались почему-то формой некой улыбки, причем улыбки молодого красивого лица.
Она падала на стол, когда вы ее бросали, с почти неслышным стуком. Она была сама легкость, само изящество, сама любовь. Она танцевала, пела, смотрела на вас.
Может быть, мало что из предметов было так прекрасно, как маска. Она была женщина, Ренуар, сновидение, она была "завтра", она была "наверно", она была "сейчас, сейчас, подожди, сейчас"...
Иногда, едва вы сомкнули веки, как вдруг в мозг, еще не совсем спящий, вторгается видение - нет, не видение: какая-то ужасная линия, даже, может быть, фраза... Вы переживаете мгновение ни с чем не сравнимого страха. Да и страх ли это? Нет, это уже само несуществование - это уже воздействие на мозг тех клеток, которые пришли в движение, по всей вероятности, по ошибке и которые будут призваны к действию только после смерти.
А иногда в том же мозгу (это как раз происходит к концу ночи, в более поздних сновидениях) появляются видения загородных местностей, ландшафтов несравненной, как бы покинувшей полотна Веронезе, красоты. Что же в таком случае это? Воспоминания? Образы грусти о прошедшей юности? Я сказал бы даже, что появляется одна и та же местность, и когда я просыпаюсь, то мне кажется, что если поискать как следует, то я найду эту местность где-то в районе Обсерваторного и Стурдзовского переулка в Одессе.
Разве не удивительно, что нашему мозгу представляются именно странные видения? Почему? Кто вызвался нас пугать? Совесть? Или это атавизм, воспоминание о саблезубом тигре, пещерном медведе? Ведь объясняют тот внезапный испуг перед засыпанием, когда человек весь содрогается почти до спазмы мускулов живота, тем, что это есть не что иное, как именно воспоминание о падении с дерева в ту эпоху, когда мы жили на деревьях и, упав среди ночи с дерева, были обречены на гибель...
Этот сад казался продолжением сновидения. Это потому, что я вошел в него в очень ранний час, в воскресенье, летом, когда город спал. Тишина, неподвижность, голубизна даже и недалеких далей, как всегда в летнее утро... Где-то потрескивание вырывающейся из шлангов воды.
Не сад, а маленький под домом садик - чуть лучше, чем обычно, возделанный палисадник. Однако в нем множество посеянных по так называемому мавританскому способу маков - просто в траве; множество табаку. Две-три скамьи из зеленых бревен. В высоту убегает кирпичная стена, как всегда, образуя для цветов и зелени, может быть, самый выигрышный фон. Верно, этот фон беден, но полон мечтательности, полон зова в будущее - даже для такого старика, как я. Железные перильца тоже убегают вверх, там открыта дверь, за которой темнота... Что там? Коридор?
Я вошел в садик с мыслью, что он продолжение сновидения. Нет - просто тишина, утро, неподвижность белых и алых головок среди травы и над травой... Как можно не заговорить с цветами, когда ты один? Все ли будет хорошо - обратился я к цветам. Да, отвечали белые цветы табака. Нет, кидал мне мак. Нет, нет, нет! Так я и ушел из садика с воспоминанием о добром, широком распластанном "да" белого табака и огненных, кидаемых через плечо "нет", "нет", "нет" - мака.
- Нет, нет, не сновидения! Стал бы я этим заниматься, вызывать сны с их бессмыслицей, просто балаганом. Не сновидения, а самое настоящее проникновение в материальный мир прошлого.
- А будущего?
- Из чего же я могу создать будущее? Прошлое оставило отблески, их можно уловить, сконцентрировать, а будущее...
Он улыбнулся:
- Будущее еще на солнце!
Он все возвращался к теме света. Материальный мир создан светом. Называйте это как хотите - квантами, атомами, но это свет, это солнце.
- Все создано солнцем? - спросил я.
- Конечно!
Ему можно было поверить хотя бы потому, что в конце концов он говорил школьные вещи. Ему просто нельзя было не поверить, поскольку он...
Поскольку он держал в руках маленький стеклянный прибор - пожалуй, стеклянный столбик, толщиной в карандаш - вот-вот, больше всего это походило на стеклянный карандаш! Он и вертел им, как вертят карандашом, только от верчения этого карандаша вдруг стал слышаться как бы отдаленный смех не то в лодке, не то в саду...
В этом карандаше нет-нет да и появлялось нечто вроде золотой иголки, нет-нет да и начинал вдруг слышаться отдаленный не то где-то в саду, не то в лодке смех.
- Кто-то вспоминает свою молодость, - сказал он.
Он остановил карандаш, чуть повернул крохотный купол на нем, и все увидели, как девушка, сама чем-то похожая на лодку...
Необыкновенно медленно, как никогда на моей памяти, разворачивается в этом году весна. То зеленое, что виднеется сегодня между домами, из-за домов, еще далеко не то, что называется первой зеленью. Его еще нет, этого зеленого, оно скорее угадывается. Не слышно, например, запаха, характерного для этих дней. Может быть, впрочем, мир не устанавливает со мною контакта? Может быть, с годами теряется возможность этого контакта? Может быть, школьник слышит запах - вот этот школьник, который, как я когда-то, хочет со всей добросовестностью развязаться с заботами, чтобы ни одного дня весны не прожить невнимательно.
Надо выбраться за город. Поеду на какую-нибудь станцию, сойду и буду стоять. Установится ли контакт? Когда-то я хотел есть природу, тереться щекой о ствол дерева, сдирая кожу до крови. Когда-то я, впервые после перерыва оказавшись за городом, взбежал на невысокий холм и, не видя, что вокруг кладбище, упал, чувствуя восторг, в траву лицом - в ножи травы, которые меня ранили, плакал от сознания близости к земле, разговаривал с землей.
Поднявшись, я увидел деревенское кладбище с фанерными крестами, с фотографическими карточками - все в каких-то вьющихся лиловых побегах и с темным дубом, который склонялся над ним и шумел.
Ходишь по городу... Сентябрь, но чисто, спокойно, жарко. В кармане несколько сотен. И, как ни ходишь, не принимает тебя мир. Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж? В Венецию? В Краков? Нет, в закат. Вот и теперь иду, уже понимая, что в закат прийти нельзя. Очевидно, это была мечта о бессмертии. Не она ли вела монгол на Запад? В закат? Недаром же есть легенда о том, как Чингисхан потребовал бессмертия от своих приближенных.
Качание оси.
Может быть, если бы не было эффекта заката, вся история была бы иной. Кто-то правильно сказал мне, что человечество изобрело бы что-нибудь другое - лишь бы мучиться.
Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель? Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личик, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот... Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке - видим ли мы ее? Утка опрокидывается
головой вперед в воду - замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой?
Ее нет! Где она? Она плывет под водой... Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, постойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!
Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути!
Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения - ветки, ветки, ветки...
Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле?
Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное - деревья. Может быть, это и правда так - деревья? Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте, была освещена закатом - причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубокозеленой... Этот ствол уходит косо, как уходит лестница, в небо. Эта хвоя - венец - темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг.
Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильно, которое я увидел вдруг с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же на холме, все так же откинувшись...
Береза действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных надоевших березах, чем о настоящих.
Некоторые из них очень высоки, объемисты. Белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные поперечные взрезы на коре ствола похожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листы. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали...
Надо написать книгу о прощании с миром.
Я очень часто ухожу очень далеко, один. И тем не менее связь моя с некоей станцией не нарушается. Значит, я сам в себе живу? Как же так? Неужели я ношу в себе весь заряд жизни? Неужели весь провод во мне? И весь аккумулятор? Это я - вся моя жизнь? Этого не может быть. Очевидно, при каждом моем шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре - и движет мною, и является моей вечно заряжающей станцией.
Оно проступает в виде мутно светящегося круга сквозь неплотную, но почти непроницаемую преграду туч - всего лишь проступает, и, смотрите, все же видны на камне тени. Еле различимо, но все же я вижу на тротуаре свою тень, тень ворот и, главное, - даже тень каких-то свисающих с дерева весенних сережек!
Что же это - солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, - я всегда был на кончике луча.